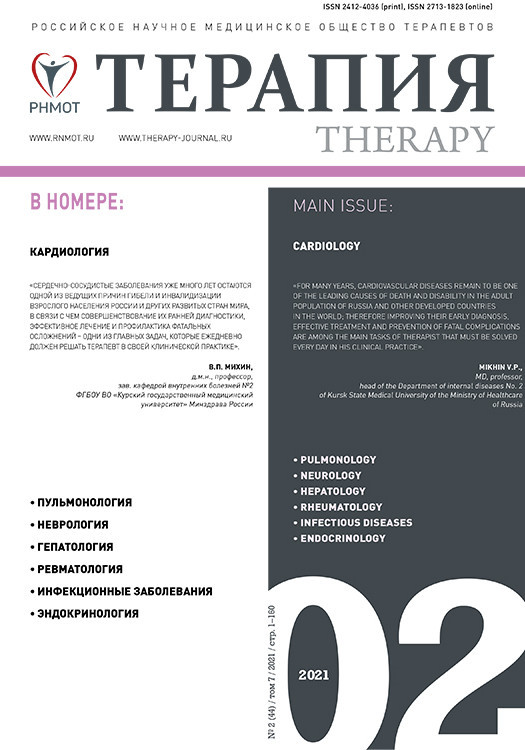В нынешнем году исполняется 150 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Плетнева – талантливого клинициста-исследователя, клинициста-мыслителя и педагога, одного из лидеров клиники внутренних болезней и основоположников кардиологии в СССР [1]. Его работа, а потом и сама жизнь были прерваны сфабрикованным «делом» 1937 г., имя втоптано в грязь и надолго предано анафеме: лишь в 1985 г. усилиями многих неравнодушных людей Дмитрий Дмитриевич Плетнев был полностью реабилитирован… посмертно… «вследствие отсутствия события преступлений».
В нынешнем году исполняется 150 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Плетнева – талантливого клинициста-исследователя, клинициста-мыслителя и педагога, одного из лидеров клиники внутренних болезней и основоположников кардиологии в СССР [1]. Его работа, а потом и сама жизнь были прерваны сфабрикованным «делом» 1937 г., имя втоптано в грязь и надолго предано анафеме: лишь в 1985 г. усилиями многих неравнодушных людей Дмитрий Дмитриевич Плетнев был полностью реабилитирован… посмертно… «вследствие отсутствия события преступлений».
Какой же представляется жизнь Дмитрия Дмитриевича глазами разных авторов – внимательных к деталям и обстоятельствам времени историков медицины, представителей медицинских династий, в чьих семьях живет память об этом удивительном человеке? Каков его образ в мемуарах современников?
Дмитрий Дмитриевич родился в дворянской семье 25.12 (07.01 н. ст.) 1871 г. в имении Бобрик Харьковской губернии. Впрочем, данные о его социальном происхождении (семья служащих), дата (1872 или 1873 г.) и место рождения (село Яновщина Полтавской губернии) в разных архивных документах варьируются. Объясняется ли это чрезвычайной сосредоточенностью Д.Д. на более важных проблемах и признанием несущественности возникающих опечаток или же во время классовых чисток ему пришлось слегка подкорректировать свою биографию, остается загадкой.
О его детстве и юности почти ничего неизвестно. Иностранными языками (немецким и французским) он владел с детства, с отличием закончил 1-ю Харьковскую гимназию, поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Видимо, стремление получить лучшее образование из возможных заставило студента Плетнева с третьего курса перевестись в Императорский Московский университет, где на кафедре факультетской терапии читал блистательные лекции знаменитый своим анамнестическим методом постановки диагноза Григорий Антонович Захарьин, прививал любовь к медицинским исследованиям на кафедре госпитальной терапии клиницист-новатор Алексей Александрович Остроумов, доказывал необходимость общественной деятельности врачей для решения медицинских проблем в масштабах страны талантливый терапевт Василий Дмитриевич Шервинский.
Окончив с отличием курс в 1895 г., Д.Д. Плетнев стал ординатором так называемой параллельной терапевтической клиники, которая базировалась в Ново-Екатерининской больнице (основные университетские клиники располагались на Девичьем поле). Те короткие воспоминания, которые успел оставить Д.Д., относятся именно к этому периоду его жизни. Из них мы узнаем, что больница была частично городской, частично университетской; город оплачивал содержание больных, «своих» врачей и ординаторов, университетские же ординаторы за свой трехлетний университетский стаж денег не получали (но и не платили) и во время летних каникул, когда их клиники замирали, должны были месяц работать в «городской» части на дежурствах. В отличие от университетских клиник, в которых подбор пациентов осуществлялся по темам занятий, здесь приток разных тяжелых больных был всегда велик. Дежурить же врачам приходилось по очереди во всех отделениях сразу (тогда это были терапия, хирургия, неврология, андрология, гинекология и отоларингология). В экстренных сложных хирургических случаях дежурный ординатор вызывал живших при больнице ответственных хирургов. «Таким общебольничным дежурствам на все отделения, поступлению в экстренном порядке тяжелых случаев на ответственность ординатора я придаю серьезное значение в смысле медицинского воспитания молодого врача. Надо быстро соображать, не на кого возложить ответственность, ибо право вызова старшего врача не есть право заставить его фактически вести дежурство. Его вызов всегда должен быть мотивированным. Все это обязывало дежурного врача к вдумчивому и внимательному отношению к своему делу. <…> Симбиоз клиник, дружественная внутрибольничная атмосфера, хорошие руководители отдельных клиник сделали то, что воспоминание о проведенных внутри учреждения годах у многих из нас является светлой страницей биографии» [2].
Впрочем, был у параллельных клиник и свой недостаток: университет отпускал мало денег на науку. К тому же руководитель клиники проф. К.М. Павлинов хоть и охотно делился с ординаторами знаниями, помогал талантам (по его рекомендации уже в 1897 г. Д.Д. Плетнев стал действительным членом Московского терапевтического общества), но в свою научную работу их не вовлекал: главной задачей клиники провозглашалась подготовка «практических врачей с клиническим уклоном». Желающим заниматься наукой приходилось вести ее либо в других учреждениях, либо за собственные средства.
С 1899 г. К.М. Павлинов становится профессором кафедры частной патологии и терапии и директором общей клинической амбулатории, а Д.Д. Плетнев – внештатным ассистентом его кафедры. «Вероятно, отсюда – две особенности Плетнева-врача – блестящее владение пропедевтикой и мгновенная ориентировка в условиях поликлинической “пятиминутной” медицины и частной практики: кафедра была аналогом современной пропедевтической, а амбулатория давала богатый и разнообразный клинический материал» [3].
Исследовательская деятельность Д.Д. началась именно на этой кафедре. Среди его научных наставников – проф. А.Б. Фохт (один из создателей и директор первого в России Института общей и экспериментальной патологии при клиниках Московского университета) и проф. В.Д. Шервинский. В 1902 г. работа Плетнева была отмечена премией, что позволило ему посетить зарубежные клиники и научные библиотеки. Вот выдержка из его письма в Россию в это время: «Как-то у самого лучше спорится работа, когда видишь кругом людей, чего-то ищущих в науке, а не стремящихся поскорее отделаться от докучливой обязанности, называемой клинической работой, и попасть в трактир» [4].
В 1906 г. Д.Д. Плетнев защитил диссертацию на тему «Экспериментальное исследование по вопросу о происхождении аритмии», признанную впоследствии одной из основополагающих по проблеме нарушений сердечного ритма.
В 1907 г. приват-доцент Д.Д. Плетнев был направлен за границу для приготовления к профессорскому званию, где знакомился с последними достижениями клинической науки, работал в известнейших европейских клиниках Ф. Крауса (Берлин), Ф. Мюллера (Мюнхен), Б. Наунина (Страсбург), А. Шоффара и Ж. Бабинского (Париж). Его интересовало буквально все: биохимия и бактериология, кардиология и физиология, гастроэнтерология и неврология. Плетнев позиционировал себя как терапевта и невролога. Неврологическую семиотику он знал не менее блестяще, чем терапевтическую. Со многими клиницистами он надолго установил прочные дружественные и научные контакты.
С 1911 г. профессор Д.Д. Плетнев возглавлял терапевтические клиники сначала Высших женских курсов, затем (с 1917 г.) – Московского университета, с 1930 г. – Центрального института усовершенствований врачей. В конце 1920- х гг. он занял должность штатного консультанта Лечебно-санитарного управления Кремля и Первого Коммунистического Госпиталя (ныне Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко), в 1932 г. – директора организованного им научно-исследовательского института функциональной диагностики и терапии.
Серьезной научной работой он занимался на фоне руководства кафедрой и клиникой, приобщения к медицинской науке способной молодежи. «Среди многочисленных учеников Плетнева ряд исследователей – Мирон Семенович Вовси, Борис Аркадьевич Егоров, Павел Евгеньевич Лукомский, Виталий Григорьевич Попов, Александр Зиновьевич Чернов и другие – развивали кардиологическое направление, преимущественно по проблемам грудной жабы и инфаркта миокарда, аритмий сердца и сердечной недостаточности, электрокардиографической диагностики болезней сердца; эти ученики образуют кардиологическую школу Плетнева. Однако влияние его яркой творческой личности на клиническое мышление врачей выходило далеко за пределы научной школы, университета, столицы, оно было столь глубоким и устойчивым, что и современники, и последующие (с 60-х гг. XX в.) поколения отечественных клиницистов и историков медицины не сомневались в его основополагающей роли и безусловном праве на лидерство» [5]. А вот воспоминание академика АМН СССР А.Л. Мясникова о лекциях для студентов: «Особенно нам нравились лекции профессора Д.Д. Плетнева. Этот блестящий клиницист нас привлекал как диагнозами, так и острой и яркой речью. Всегда элегантный, менявший каждый день костюм, не говоря уже о рубашках, надушенный, сверкающий запонками, окруженный хорошенькими женщинами (студентками, ординаторами), он входил в аудиторию, полный какой-то внутренней силы, и начинал говорить в абсолютной тишине хрипловатым, довольно тихим голосом. Плетнев не прибегал к пафосу. Он нередко запинался, перескакивая с фразы на фразу, иногда как бы искал их. Но говорил оригинально, задушевно и просто. Его было легко слушать, хотелось даже, чтобы лекция не кончалась. Его лекции были неожиданными и свободными. Это были блестящие импровизации… Он держался в аудитории как артист – в лучшем смысле этого слова» [6].
Научная работа Д.Д. всегда отличалась «отзывчивостью» на требования времени: так, при возглавляемой им клинике пропедевтики медицинского факультета Высших женских курсов по его настоянию с осени 1913 г. открылся рентгеновский кабинет. На кафедре в это время велась большая научная работа по клинике, диагностике и терапии туберкулеза. Д.Д. с головой уходит в разработку рентгенологических методов исследования. С началом Первой мировой войны они оказались чрезвычайно востребованными. Его «Руководство по рентгенологии» было издано в 1916 г. В том же году он активно участвует в организации 1-го съезда рентгенологов и радиологов, где обсуждается постановка рентгеновского дела в ближайшем и глубоком тылу и рентгенодиагностика ранений.
Гражданская война… В стране разруха, голод, эпидемии. Сыпной тиф косит армии и тыл. «Не было и не могло быть удовлетворительных условий для научной работы. Прекратили свою деятельность научные общества и журналы. Если говорить о материальной базе науки <…> клиническая медицина в послереволюционной России начинала практически с нуля» [7]. Огромными усилиями Д.Д. создает в 1920 г. журнал «Клиническая медицина» и становится его ответственным редактором. «Новый журнал задуман, однако как совершенно нетрадиционное издание. Д.Д. Плетнев ставит своей целью “дать врачу научный и научно освещенный материал, необходимый для обогащения его знания и непрерывного развития в направлении общемедицинских и врачебных интересов”» [8]. Позже он войдет в состав редколлегий еще целого ряда медицинских изданий. В 1921 г. публикуется блестящая монография Плетнева «Сыпной тиф», в 1922 г. – ее второе издание. Следом работы по висцеральному сифилису, рентгенодиагностике болезней органов дыхания, кровообращения, пищеварения. Для врачей и студентов в это же время выходят его «Основы клинической диагностики» и редактируется совместно с Г.Ф. Лангом многотомная «Частная патология и терапия внутренних болезней». Он активно участвует в организации Всесоюзных съездов терапевтов.
Занимаясь неврозами, Д.Д. Плетнев первым высказывает идею о маскированной (соматизированной) депрессии… Но, конечно, главный труд его жизни – «Болезни сердца», изданные в 1936 г. В списке опубликованных работ Д.Д. Плетнева (руководства, монографии, брошюры и статьи) более 100 наименований, темы разные, но всегда актуальные. Красной нитью звучит мысль о том, что клиника внутренних болезней должна заниматься не органопатологией, а антропопатологией, ибо организм – целостная система: при нарушении работы одного органа будут страдать и другие, а социальность человека добавляет в эту биологическую палитру дополнительные краски. «Все теории, оставленные нам нашими предшественниками, исторически законны. Все они заключают в себе крупицу истины» – удивительно, как у него хватало сил и времени, кроме всего этого, серьезно заниматься историей медицины и анализировать ее [9], указывать на не оцененные ранее идеи русских клиницистов: «Иностранцы же русской литературы не знают, а русские… тоже ее не знают» [10].
«Наш современник Д.Д. Плетнев» – так о глубине работ и исследовательской прозорливости Д.Д. говорило спустя почти полстолетия после его смерти уже само название статьи наших известных врачей и историков медицины [11].
А вот отрывок из выступления Лауреата премии МГНОТ им. Д.Д. Плетнева, профессора П.А. Воробьева на пленарном заседании Общества терапевтов 26 ноября 2014 г.: «Когда я только поступил в институт, мне попалась в руки книжка Дмитрия Дмитриевича Плетнева, и я с тех пор влюбился в этого человека, много читал его работ. Причем даже при Советской власти, когда нельзя было так просто достать эти книги, в запасниках Фундаментальной библиотеки они были. Я сделал совершенно удивительные открытия для себя, и до сих пор эти книги и статьи имеют огромное значение для развития современной медицины. Вот список книг Д.Д. Плетнева:
- Клиническое руководство по рентгенологии (совместно с П.П. Лазаревым, 1916);
- Сыпной тиф (1921);
- Основы клинической диагностики (ред. А.М. Левин и Д.Д. Плетнев, 1922);
- Клиническая диагностика внутренних и нервных болезней (1923);
- Рентгенодиагностика органов дыхания, кровообращения и пищеварения (1926);
- Курс инфекционных заболеваний (ред. С.И. Златогоров и Д.Д. Плетнев, I том – 1932 г., II том – 1935 г.);
- Русские терапевтические школы (1923);
- Очерк из истории медицинских идей (1924);
- Эволюция медицинских идей за последние 60 лет (1924);
- Основы терапии, руководств для врачей и студентов в 3 томах (ред. С.А. Бруштейн и Д.Д. Плетнев, 1925–1927);
- Частная патология и терапия внутренних болезней в 4 т. (ред. Г.Ф. Ланг и Д.Д. Плетнев, 10 выпусков в 1927–1931);
- Болезни сердца (1936).
Человек он был разносторонний, но считается, что главная книга Д.Д. Плетнева, книга жизни – это «Болезни сердца»… А книга «Основы клинической диагностики», 2-е издание 1922 г. содержала разделы и по микроскопии клеток крови, и по бронхоскопии, по гастроскопии, и рентгенологию, и электрокардиографию. Читаешь ее как современный учебник» [12].
Увы, но с ужесточением политического режима в СССР в конце 1920-х гг. многогранная и плодотворная работа выдающегося клинициста прерывается. Первый раз во время развернутых по всей стране пресловутых «классовых чисток» 1929 г. Понимая всю глупость судилища, на которое его приглашали, Плетнев предпочел в это время уехать в Воронеж читать лекции врачам. Разразился скандал, и строптивого профессора изгнали из университета. «Наиболее вероятная причина столь крутого поворота в судьбе Д.Д. Плетнева кроется в длительном конфликте с А.Я. Вышинским, назначенным в 1925 г. ректором Московского университета. Профессор Плетнев не скрывал ни своих нравственных убеждений, ни разногласий с ректором и позволял себе весьма колкие высказывания в его адрес» [13]. Правда, ректором с 1928 г. был уже И.Д. Удальцов, но это вряд ли исключает месть пошедшего на повышение А.Я. Вышинского.
Умный и опытный врач нужен везде, и в том же 1929 г. профессор Д.Д. Плетнев стал заведовать терапевтической клиникой Московского областного клинического института (ныне Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского). С 1932 г., как уже говорилось, он еще и возглавляет им же созданный Научно-исследовательский институт функциональной диагностики и терапии. Казалось бы, все удалось: успешная работа, любимая семья, талантливые и благодарные ученики, Дмитрий Дмитриевич консультирует в Кремле самых влиятельных государственных руководителей и деятелей культуры. В конце 1932 г. вся страна помпезно отмечает 35-летие врачебной, научной и педагогической деятельности знаменитого профессора, ему присваивается звание заслуженного деятеля науки. Однако…
Громом среди ясного неба в июне 1937 г. стала статья в «Правде»: в ней 66-летний профессор обвинялся в том, что во время врачебного приема покусал грудь одной не первой молодости особы. В прессе начинается хорошо организованная травля «врача-насильника, садиста». Безупречная репутация обвиняемого, бездоказательность обвинения и разумные доводы: «… кусать ее можно было только в целях самозащиты, когда другие средства самообороны от нее были исчерпаны или не доступны» [14] во внимание не принимаются. Суд приговаривает его к 2 годам условно. Впрочем, затишье не успокоило Д.Д. Близким друзьям незадолго до следующего ареста он сказал: «Я слишком много знаю». И осенью того же года его и двух других кремлевских врачей – Л.Г. Левина и И.Н. Казакова – обвиняют в том, что они как «участники антисоветского правотроцкистского блока» преднамеренно умертвили Максима Горького неправильным лечением. Д.Д. Плетнев был признан виновным и приговорен к 25 годам лишения свободы, Л.Г. Левин и И.Н. Казаков – к расстрелу.
В начале войны Д.Д. отбывал заключение в Орловской тюрьме. При приближении к городу войск вермахта все политзаключенные тюрьмы по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны. Приговор был приведен в исполнение в Медведевском лесу под Орлом.
Чем опасен был для сталинского режима этот человек, посвятивший свою жизнь самой гуманной цели? Ответ путем независимого опроса многих близких к власти свидетелей того времени предложил историк-публицист А.В. Антонов-Овсеенко. …Когда в 1932 г. погибла Надежда Аллилуева, жена Сталина, кремлевские врачи – Плетнев, Левин и Казаков – отказались подписать медицинский акт о ее смерти от аппендицита: огнестрельная рана свидетельствовала о выстреле с расстояния в несколько метров. «Академик АМН Борис Ильич Збарский, известный биохимик, бальзамировавший тело В.И. Ленина, тоже посетил квартиру Сталина. Он рассказал об этом знакомой актрисе А.П. Петрушанской: “Я видел мертвую Надежду Сергеевну...” – “Все говорят, что это было самоубийство. Это было не самоубийство. Это было убийство. Не расспрашивайте меня больше ни о чем, пожалуйста... Что бы ни случилось потом, его я бальзамировать не буду”. Сталин запомнил всех, обладавших достоверной информацией. И никого не обошел жестокой карой: в конце 1930-х гг. пострадали Казаков, Левин, Плетнев. Академик Збарский в 1949 г. участвовал в бальзамировании тела Георгия Димитрова. Через год Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии Збарского арестовали. И все же в 1953 г. ему предложили бальзамировать тело Сталина. Збарский отказался» [15].
«Все тайное становится явным...» Поклонимся с благодарностью памяти человека, отдавшего всю мощь своего незаурядного таланта развитию медицинской науки в нашей стране в самое трудное для нее время. Лучший памятник ему – издание его «Избранного» под редакцией В.И. Бородулина, В.Д. Тополянского и Н.Р. Палеева. Слегка перефразируя Дмитрия Дмитриевича, отнесем к нему слова, написанные им о своих учителях: «Он не зарыл своего таланта, но излучил его в человеческую среду, и наша обязанность потомков сохранить его имя в русской науке и воздать ему должное».