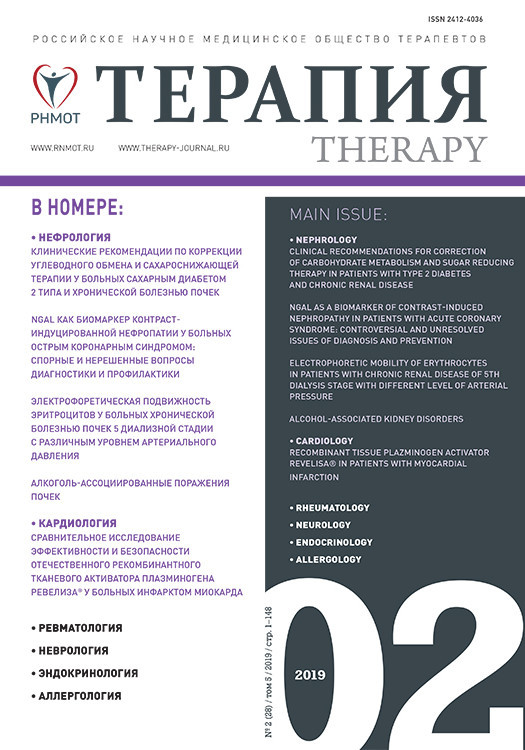Решением Президиума Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) все мероприятия Общества в 2019 г. посвящаются 190-летию со дня рождения выдающегося отечественного врача, педагога и ученого, одного из основателей российской терапевтической школы Григория Антоновича Захарьина.
«Насчет головной боли.
Не пожелаете ли посоветоваться с Захарьиным?
Он возьмет с Вас сто рублей,
но принесет Вам пользы минимум на тысячу.
Если головы не вылечит, то побочно даст
столько хороших советов и указаний,
что Вы проживете лишних 20–30 лет».
(Из переписки А.П. Чехова с А.С. Сувориным)
 В этом году исполняется 190 лет со дня рождения Григория Антоновича Захарьина – одного из основателей персонифицированной медицины, гениального терапевта, блестящего клинициста и преподавателя, более 35 лет делившегося своими знаниями и опытом со студентами медицинского факультета Московского университета.
В этом году исполняется 190 лет со дня рождения Григория Антоновича Захарьина – одного из основателей персонифицированной медицины, гениального терапевта, блестящего клинициста и преподавателя, более 35 лет делившегося своими знаниями и опытом со студентами медицинского факультета Московского университета.
Будучи фигурой яркой, талантливой, противоречивой, он до сих пор остается одной из самых загадочных и мифологизированных личностей в истории отечественной клиники внутренних болезней [1]. Одни считали и считают его непревзойденным диагностом и врачом, выдающимся лектором и ученым, заставившим окружающих уважать труд и профессию врача [2, 3], другие – чудаковатым сребролюбцем, «одним из основоположников безудержной коммерциализации врачебных услуг и связанной с этим дегуманизации медицины» [4,5].
Попробуем понять истоки столь разных суждений, опираясь главным образом на известные факты его биографии и свидетельства его современников.
Известно, что Григорий Антонович – потомок знатного старинного (Захарьины в «столбцах» с начала XVII в.), но обедневшего дворянского рода. Его отец – Антон Сергеевич Захарьин, получивший образование в Благородном пансионе при Московском университете и участвовавший во взятии Парижа в 1813 г., ко времени рождения сына отставной штабс-ротмистр. Мать – дочь надворного советника – Людмила Григорьевна Гейман, по некоторым сведениям, была внучкой профессора Григория Ивановича Фишер фон Вальдгейма, президента Московской медико-хирургической академии. Так что будущий великий врач получил в наследство яркую палитру генов, но материнской любви, видимо, был лишен: гармонии в отношениях родителей не было, вскоре после его рождения они развелись, и мальчик рос в поместье отца в Саратовской губернии.
Учился он блестяще и, окончив Саратовскую мужскую гимназию, в 1847 г. поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета. Среди его первых учителей – руководитель кафедры сравнительной анатомии и физиологии Иван Тимофеевич Глебов, заложивший основы экспериментального физиологического направления развития медицины в России, и Лука Егорович Пикулин, которому, по выражению Сергея Петровича Боткина, «все были обязаны упражнениями в перкуссии и аускультации». Привлек внимание Г.А. Захарьина к клинике внутренних болезней профессор Александр Иванович Овер. Именно он отметил большие способности Захарьина и после окончания Григорием Антоновичем университета в 1852 г. оставил его при факультетской терапевтической клинике в качестве докторанта. Здесь Григорий Антонович не только работает над диссертацией, но и со всей присущей ему основательностью изучает немецкий и французский языки, пишет для «Московского врачебного журнала» рефераты – обзоры трудов европейских коллег по самым разным разделам терапии.
В 1854 г. Г.А. Захарьин защищает докторскую диссертацию «De puerperii morbis» («Учение о послеродовых заболеваниях») и продолжает работу в клинике. Осенью 1854 г. Захарьин успешно сдал три экзамена на «учено-служебные» звания: уездного врача, оператора и акушера.
С 1855 г. Григорий Антонович активно участвует в издании «Московского врачебного журнала», где впоследствии опубликовал ряд серьезных научных статей. За работу «Приготовляется ли в печени сахар?» (1855) он был избран действительным членом Физико-медицинского общества, на заседаниях которого в 1860 г. вступил в полемику с приверженцами модного в то время способа лечения сифилиса повторными прививками оспенной вакцины. Убедившись на практике в полной бесполезности этого метода, Захарьин доказывал его опасность для больных из-за промедления в применении более действенных старых средств и возможности осложнений (об антисептике и асептике в то время еще не знали). Сообщество врачей со временем отказалось от этого способа [6].
С 1856 по 1859 г. Г.А. Захарьин стажировался за границей в клиниках и лабораториях Р. Вирхова, А. Труссо, К. Бернара и др., совершенствуясь в патологии и терапии, а также патологической анатомии, гистологии, химии, физике и физиологии. Сам Захарьин любил говорить, что он ученик Р. Вирхова, а главным в его профессиональной деятельности стала знаменитая вирховская триада – «исцелить, облегчить, обнадежить». Воспользовавшись поручением факультета «посещать больницы и вникать в их устройство и разнообразные выгоды и невыгоды для клинического преподавания», Захарьин не меньше времени проводил в клиниках на занятиях ведущих немецких, австрийских и французских профессоров-клиницистов.
По воспоминаниям современников, он оставался прилежным учеником до конца своей жизни: интересовался всеми медицинскими новостями, читал, анализировал и обсуждал с коллегами статьи из основных европейских медицинских журналов [2, 7].
Надо сказать, что к середине XIX в. преподавание терапии в Московском университете отставало от западноевропейского: профессор А.И. Овер, будучи обременен громадной практикой, уделял слишком мало времени студентам и читал всего 6–8 лекций на латыни, которую многие студенты знали плохо. Его адъюнкт К.Я. Млодзеевский – по выражению тогдашних студентов, «наставник узкий и отсталый» – вооружить их передовыми знаниями не мог [8]. Объективные методы обследования больного в основном оставались на уровне конца XVIII в. Вероятно, это могло быть одной из причин того, что состоятельные люди предпочитали лечиться за границей или приглашать к себе иностранных врачей, а «на труд, советы и время русских врачей смотрели легко и необязательно» [2].
Осенью 1859 г. Григорий Антонович во всеоружии передовой медицинской науки вернулся из-за границы и приступил к чтению семиотики внутренних болезней в Московском университете. В 1860 г. он был назначен адъюнктом факультетской терапевтической клиники, а в 1862 г. – ординарным профессором диагностики и терапии. В 1864 г. (после смерти А.И. Овера) Григорий Антонович стал профессором, а затем и директором факультетской терапевтической клиники Московского университета.
Факультетская терапевтическая клиника, руководимая Захарьиным, как и клиника С.П. Боткина в Петербурге, вводила принципы европейской естественно-научной медицины в практику клинических кафедр отечественных университетов: устанавливалась обязательность применения перкуссии и аускультации как важнейших диагностических методов и патологоанатомического вскрытия трупа умершего больного как метода контроля прижизненной диагностики; при клиниках организовывались лаборатории, а в научные клинические исследования внедрялся эксперимент [1].
Возглавляя клинику почти до самой своей смерти, Григорий Антонович посещал ее ежедневно, даже в большие праздники, поскольку, по его словам, «в страданиях больного таких перерывов нет». С 10 до 12 ч он так же ежедневно, кроме воскресенья, читал лекции для студентов, которые пользовались необыкновенной популярностью: аудитория всегда бывала переполнена, на лекциях собирались сотрудники клиники, врачи, приехавшие из разных концов России, студенты (не только с медицинского, но и с других факультетов). Выступления Захарьина были логичны, ясны и поучительны. К тому же он обладал высшим достоинством для преподавателя – умением заставить себя слушать [9].
Целью учебной работы Захарьина была подготовка мыслящих практических врачей, которым предстояло работать по всей России. Им в помощь Григорий Антонович развил «до высоты искусства» метод опроса больного, заложенный еще М.Я. Мудровым (1776–1831). Понимая психологию студентов, он обучал их, как ставить диагноз методом индукции: не объявлял тем клинической лекции и диагноз заранее, ибо больной приходит всего лишь с «болезненными явлениями». Григорий Антонович начинал обследование с рассказа больного о его «главных страданиях» (одышки, болей, слабости и т.п.) и их давности, а затем расспрашивал «сам по порядку», объясняя предварительно больному необходимость давать точные ответы, «утверждать или отрицать лишь то, что ему твердо известно». Удивительно для того времени: в тщательно разработанный опрос из многих пунктов (которые, конечно, варьировались в зависимости от характера заболеваний), кроме выяснения условий и образа жизни, входили и болезни близких родственников, включая дедов по отцовской и материнской линии [10]. Затем следовало объективное обследование больного, дополненное необходимыми (обычно немногочисленными) анализами. Возрожденный М.Я. Мудровым девиз врачей античности «лечить больного, а не болезнь какого-либо органа» воплощался перед студентами во всей многогранности получаемых результатов. Как выяснялось, у пациентов чаще бывало не одно заболевание, а несколько, в разной степени поддающихся лечению. Для некоторых из них по ходу опроса удавалось установить причину и наследственную предрасположенность. После формулировки выкристаллизованного диагноза Григорий Антонович назначал лечение – глубоко продуманное и по возможности необременительное для пациента. Лечение Захарьин понимал как комплекс мероприятий: образ жизни, климатотерапия, диетотерапия и медикаментозная помощь. Он предпочитал немногие, но хорошо испытанные на практике препараты, утверждая, что «собачья» физиология (экспериментальная фармакология) не указ клинике и без клинического подтверждения ничего для нее не стоит» [11]. Если у пациента было несколько заболеваний, не назначал лекарства от всех сразу, а вначале лечил то, что доставляло больше страданий. Практичность и простота были здесь на первом плане.
Конечно, во второй половине XIX в. арсенал испытанных лекарств был скуден, но вера в авторитет и талант Захарьина, его торжественно важная манера обращения с больными уже обладали целительной силой. Григорий Антонович глубоко веровал в действие человеческого духа на человеческое тело, советовал поддерживать в больном всегда бодрое настроение, надежду и веру в лечение. Он играл на человеческой душе, как Паганини на скрипке [11]. Возможно, сознавая этот эффект, Захарьин так не любил лечить коллег: склонные к анализу, они были не столь внушаемы [12].
Считая, что здоровье определяется взаимодействием наследственности организма и окружающей среды, а болезнь может быть следствием «неправильностей» среды, он приучал больных не столько уповать на лекарства, сколько устранять эти «неправильности», давая пациентам и их родственникам множество детальных советов, включая и советы по гигиене, которую Захарьин считал самым действенным профилактическим средством при массовых заболеваниях: «Чем зрелее практический врач, тем более он понимает могущество гигиены и относительную слабость лекарственной терапии… Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена. Самый успех терапии возможен лишь при соблюдении гигиены» [13].
Убедившись на опыте, что здоровье у горожан обычно хуже, чем у сельских жителей, что он объяснял скученностью людей и загрязнением города «отходами животного происхождения» (помойки и туалеты в то время бывали и во дворах), Захарьин рекомендовал для здоровья чистый деревенский воздух, свежие продукты, двигательную активность, нравственное и физическое воздержание [2]. На этом пути он становится одним из основоположников развития общественной гигиены, курортологии и бальнеологии в России.
Имея опыт лечения минеральными водами, Григорий Антонович дал четкие рекомендации по их применению и постарался сделать их доступнее для масс: во время поездки на Кавказ он убедился, что воды Боржоми ничуть не хуже, чем ввозимые из-за границы «Виши», и помог наладить продажу Боржоми в бутылках, которые можно развозить по стране, ибо приехать к источникам могли себе позволить далеко не все [14].
Но, пожалуй, в историю медицины Захарьин в первую очередь вошел как исследователь вопроса о зонах гиперестезии кожи. В 1883 г. он обнаружил, что при патологии того или иного внутреннего органа определенные участки кожи становятся повышенно чувствительными и болезненными. Через 15 лет после Захарьина к подобному выводу пришел английский невролог Г. Гед (1861–1940). Позже эти чувствительные участки кожи получили название проекционных зон Захарьина–Геда, их запечатлели в виде фигур во всех руководствах по нервным болезням.
Будучи много лет руководителем одной из ведущих терапевтических кафедр России, Захарьин занимался усовершенствованием учебного процесса. Так, с участием Захарьина получили успешное завершение многократные попытки создания «приуготовительной клиники» для студентов третьего курса (предусмотренной, в частности, постановлением медицинского факультета еще в 1852 г.) и вся система трехэтапного преподавания внутренних болезней. По его инициативе в Московском университете было проведено разделение клинических дисциплин и организованы первые самостоятельные клиники детских, кожно-венерических, гинекологических болезней и болезней уха, горла и носа [1].
По мере роста авторитета Захарьина росли и его гонорары, а необыкновенно удачно вложенные деньги (не без помощи благодарных пациентов) приносили солидные доходы [15]. Но остановиться на пути обогащения такой страстной натуре трудно… Артур Шопенгауэр по этому поводу заметил: «Богатство подобно морской воде, чем больше пьешь – тем больше хочется. То же самое относится к славе».
Григорий Антонович стал богатым человеком, но гонорары его не уменьшились. П.Ф. Филатов вспоминал: «Захарьина порицали особенно за то, что он назначал сотни рублей за посещение больных на дому, за то, что в его амбулатории было вывешено объявление с указанием платы: в такие-то дни 50 р[ублей], а в такие 100 р[ублей]. Это-де не соответствует нравственным принципам врача. Знал эти нападки и Захарьин, и в разговоре по этому поводу с моим родственником Иваном Ильичом Мечниковым он сказал ему так: „В Москве врачей много, есть плохие, есть и очень хорошие, кому не нравится моя оценка своего труда и досуга — пусть лечится у других. Для бедных есть клиники, бесплатные лечебницы, больницы… я не могу лечить всю Москву!” Адвокаты Плевако, Спасович и другие знаменитости брали десятки тысяч за выход на трибуну, им не ставилось это в вину, а Захарьину ставилось и всякому врачу тоже. Захарьин заставил публику уважать труд врача и возвысил профессию врача» [16]. Да, частное лечение у него было доступно далеко не всем, но ведь его анамнестический метод в трудных случаях (а к нему обращались чаще всего именно с такими), иногда после безуспешного лечения за границей, требовал от врача много времени («часа полтора, два и более») на одного пациента и значительного интеллектуального напряжения. Григорий Антонович физически был не в состоянии принять всех страждущих, и высокие гонорары были попыткой ограничить частную практику и сохранить собственное здоровье. Иначе его время уходило бы на мнительных больных и на тех, кому легко мог помочь даже малоопытный врач [10].
Захарьин умел не только брать и умножать, но и давать деньги. Так еще в 70-е гг. он на свои средства закупал оборудование для факультетской клиники [17], пожертвовал Болховскому земству в декабре 1870 г. и Физико-медицинскому обществу в январе 1871 г. по три тысячи полновесных царских рублей [15]. В Ивановской Вирге Пензенской губернии для бедных пациентов он построил амбулаторию и аптеку, на содержание которых, а также доктора и фельдшера выделял из своих средств ежегодно 7000 руб. [18]. В помощь «недостаточным и прилежным студентам» Московского университета выделял до 10 тыс. руб. ежегодно, а в 1896 г. с благословения Священного Синода положил на вечное хранение в Государственном банке 500 тыс. руб. с тем, чтобы проценты с этого счета шли на развитие церковно-приходских училищ в его родных Пензенской и Саратовской губерниях [14].
Финансовые дела требовали времени и сил. Работу с больными в клинике он все больше доверял ассистентам и ординаторам, сам все чаще только выслушивал их доклады о больных и давал советы, а разработку экспериментальных вопросов предоставлял специалистам [7]. А вот студентов любил и пропускал чтение лекций только по болезни.
Его «боевой, не знающий компромиссов характер» [2] и нарастающая неврастения, которой способствовала изводившая его боль и прогрессирующая атрофия мышц ноги, все чаще проявлялись в крайней раздражительности, вызывая обиды коллег.
Впрочем, все ли талантливые и целеустремленные люди отличаются покладистым характером и приятными во всех отношениях манерами, даже будучи здоровыми?
История судит по делам… А современники?
Одни затаили на него обиду за беспощадную, порой переходящую все этические границы критику, другие – зависть к таланту, богатству, славе, третьи не могли простить ему его консервативных политических убеждений… И удобный момент наказать Захарьина пришел.
В конце октября 1894 г. умер император Александр III, которого несколько раз до этого Григорий Антонович консультировал. Некоторые коллеги Захарьина и члены семьи императора поторопились обвинить Григория Антоновича в ненадлежащем лечении августейшей особы... Газеты подхватили это обвинение, и «охота на зубра» началась. Нарастающее революционное брожение поляризовало общество. Справа Захарьина обвинили в смерти императора, слева – в самой попытке лечить его. К тому же Захарьин не скрывал свои консервативные убеждения. Воспламененное революционными идеями студенчество не могло ему этого простить и… объявило бойкот его лекций. Формулировка «за небрежное отношение к своим обязанностям, за дурное ведение клиники, за содействие путем влияния неправильному назначению профессоров» [19], весьма странная для не прослушавших еще курс студентов, наводит на мысль, что кто-то из заинтересованных коллег воспользовался ситуацией и умело организовал эту «акцию». А вот выдержка из газеты «Московские ведомости» за 14 ноября 1897 г.: «…Хорошо известный в либеральных кружках наперсник г. Эрисмана Жбанков и редактор газеты „Врач” Манассеин продолжают дело подстрекательства студентов против профессора Захарьина…». Руководство университета не заступилось за обиженного профессора, он подал в отставку и вскоре умер.
История судит по делам… Григорий Антонович Захарьин делал все, что мог, и, как мы убедились, сделал для развития клинической мысли, медицинского образования в России немало. Продолжила делать добрые дела уже после его смерти его семья. На заработанные им деньги была открыта работающая до сих пор крупнейшая в России туберкулезная больница в подмосковном Куркино, где он успел прикупить землю, а в цветаевском музее изобразительных искусств его труд воплотился в художественные копии скульптур эпохи итальянского возрождения и ряда других памятников. Поклонимся ему за это с благодарностью.
А как же истоки «безудержной коммерциализации и дегуманизации медицины»? Зададимся вопросом: может ли один человек, посвятивший жизнь лечению людей, нести ответственность за пороки существовавшей в то время общественно-экономической системы, в которой далеко не каждому воздавалось по трудам?
Но если по трудам… «И я скажу, и тот скажет, кто будет после меня, и все скажут, кому дороги судьбы науки в нашем Университете, вечное спасибо незабвенному, дорогому Григорию Антоновичу» [2].