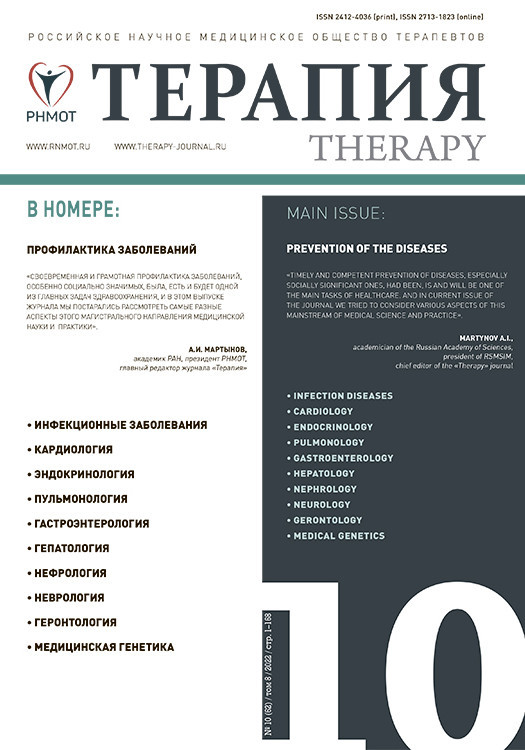ВВЕДЕНИЕ
В период коронавирусной пандемии в распоряжении работников практического здравоохранения и специалистов биомедицинского профиля ежемесячно оказываются тысячи публикуемых материалов, описывающих COVID-19. Для этого информационного массива необходим постоянный анализ, выделение особенностей патологического процесса и оценка механизмов заболевания, вызываемого SARS-CoV-2.
В современном представлении патофизиологическая картина COVID-19 являет собой диссонанс очень большого числа клеточных и молекулярных компонентов. Коронавирусная инфекция связана с широким спектром клинических нарушений, начинаясь с поражения верхних дыхательных путей и развиваясь как системная полиорганная патология. В качестве одного из основных этиопатогенетических факторов развития COVID- 19 определено острое повреждение сосудистого эндотелия с инвертированной реакцией иммунных систем. С накоплением клинического опыта выявляются зоны и системы поражения, которые дают более полное представление о симптоматике и механизмах патогенеза COVID-19.
Чрезвычайно большое количество обзорных и аналитических материалов, посвященных этой проблеме, служит предметом специальных исследований «библиографического» плана. Так, в обзоре da Rosa Mesquita R. et al. изучено более 8 тыс. клинических статей, выделены основные клинические проявления COVID-19, которые свидетельствуют о сложном и разнообразном характере патологии [1]. Заслуживает большого внимания и вышедшая в начале 2022 г. комплексная аналитическая публикация «Методические рекомендации “Особенности течения Long-COVID-19 инфекции. Терапевтические и реабилитационные мероприятия“» [2].
Клинические исследования установили, что COVID-19 может протекать бессимптомно либо сопровождаться средними или тяжелыми клиническими проявлениями, такими как пневмония, дыхательная недостаточность, неврологические расстройства, коагулопатия, множественные поражения органов. Показательны результаты рентгенографической и компьютерной томографии, когда при тяжелом течении болезни уже на ранних стадиях обнаруживаются очаговые изменения органов и тканей. У пациентов с выраженным течением COVID-19 развивается гиперкоагуляционный синдром с поражениями сердца, мозга, почек, печени, желудочно-кишечного тракта эндокринной и иммунной систем.
Клиническое течение COVID-19 включает несколько фаз:
а) вирусную инфекцию и ответную иммунную/провоспалительную реакцию;
б) локальные или системные нарушения сосудистого эндотелия;
в) тромботические осложнения в больших и мелких сосудах;
г) тотальное или избирательное поражение органов и функциональных систем.
КЛЕТОЧНАЯ ТРАНСФЕКЦИЯ КОРОНАВИРУСА
Установлено, что основной исходной причиной новой коронавирусной инфекции служит возбудитель семейства коронавирусов SARS-CoV-2. Этому вирусу посвящено множество исследований, поскольку предупреждение и нивелирование вызываемых им патологических процессов являются предметом терапевтической стратегии COVID-19. Молекулярная структура вируса похожа на предыдущие штаммы семейства SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome) – возбудителей острого респираторного синдрома, ставшего причиной эпидемии в 2002–2003 гг.
Существенные структурные и вирулентные отличия делают штамм SARS-CoV-2 значительно более патогенным. Специфичность и масштабность инфекции COVID-19 обусловлена совпадениями химических структур, благодаря которым коронавирус обладает исключительной аффинностью связывания с особым белком – ангиотензинпревращающим ферментом 2-го типа (АПФ 2) в клетках «хозяина». На этих основаниях АПФ 2 представлен как «функциональный рецептор» SARS-CoV-2 [3]. Это обстоятельство, с одной стороны, выделяет начальные этапы сложного заболевания, а с другой – определяет целевую направленность разработки специфических вакцин для блокирования вирусов [4].
АПФ, являющемуся важным белком сосудистой регуляции, придается особое значение в начальной фазе COVID-19. Поскольку АПФ 2 в мембраносвязанной форме присутствует во многих тканях, альвеолярные клетки легких и клетки сосудистого эндотелия становятся первичной мишенью поражения. Трансфекция SARS-CoV-2 и перенос инфекционного начала в эндосому запускает распространение вируса в респираторной системе, затрагивая далее огромное полотно сосудистого эндотелия органов. С учетом способности SARS-CoV-2 поражать различные клеточные системы высказывается идея о существовании помимо, АПФ 2, дополнительных посредников проникновения инфекции в клетки хозяина. Среди таких веществ упоминаются трансмембранная сериновая протеаза 2-го типа (TMPRSS2), белки нейропилин и басигин (CD147) [5].
За счет патогенного взаимодействия вирус SARS-CoV-2 нарушает естественные реакции иммунного и гемоваскулярного контроля. При заражении, как правило, включается защитная реакция, которая, впрочем, приобретает форму цитокинового стресса, стохастического возмущения, когда продукция иммунных молекул совмещается с избыточной экспрессией и уничтожением самих «защитников». Данные медицинского обследования установили, что у большинства тяжелых пациентов зачастую не было серьезных клинических проявлений в ранний период заболевания COVID-19; состояние резко ухудшалось на последующих стадиях, когда на фоне острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и «цитокинового шторма» развивалась органная недостаточность [1, 2].
Следствием быстрой репликации вируса и провоспалительного ответа цитокинов становится стимулирование апоптоза как универсальной реакции клеточной гибели. Апоптоз повреждает легочные микрососуды и клеточные барьеры, вызывая альвеолярный отек и гипоксию. Таким образом, индуцирующие друг друга цепочки клеточно-молекулярных реакций, нарушающие последовательность и адекватность иммунных процессов, играют первичную роль в патогенезе острого респираторного синдрома COVID-19.
«ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ»: НАЧАЛО МНОЖЕСТВА ДИССОНАНСОВ
Природа позаботилась и создала надежную систему иммунной защиты и уничтожения патогенов в организме. Эта система отвечает следующим принципам: а) распознавание чужеродной субстанции; б) включение молекул-разведчиков, в роли которых выступают цито- и хемокины различного профиля; в) стимуляция специализированных клеток (макрофагов), мастеров уничтожения «ненужных» продуктов.
Большой опыт клинических наблюдений определяет «цитокиновый шторм» как первопричину резкого и фатального ухудшения здоровья. Вызываемая вирусом SARS-CoV-2 гипериммунная реакция имеет сходные черты с гемофагоцитарным гистиоцитозом, или синдромом активации макрофагов. Отмечается резкая экспрессия провоспалительных компонентов – интерлейкина 6 (ИЛ-6), ИЛ-10, фактора некроза опухоли-альфа (ФНО- α), что указывает на инвертированный иммунный статус. Также констатируется повышение уровней гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (GCSF), хемоаттрактантного белка моноцитов-1 (MCP-1), воспалительного белка макрофагов (MIP-1α).
Комбинация этих компонентов запускает сигнальные пути экспрессии генов и синтеза провоспалительных цитокинов. Активированные тканевые макрофаги, тучные клетки, эндотелиальные и эпителиальные клетки выступают основными источниками цитокинов. «Цитокиновый шторм» влечет за собой разнообразные деструктивные изменения, включающие повреждение эндотелиальных клеток, сосудистого барьера, капилляров, нарушение межклеточных взаимодействий, полиорганную недостаточность. Клинические исследования показывают, что определяемые в сыворотке крови изменения уровня цитокинов ИЛ-2R и ИЛ-6 коррелируют с тяжестью заболевания [6].
ЭНДОТЕЛИЙ КАК ОСНОВНАЯ МИШЕНЬ КОРОНАВИРУСА
Эндотелий сосудистой системы рассматривается как интегрирующей компонент гемодинамики. Он представляет собой функциональную пограничную структуру между циркулирующей кровью и окружающими тканями. Образно эндотелий именуется как «эндокринное древо», «биохимическая кухня» которого включает большой потенциал структур гемоваскулярного контроля [7]. Клетки эндотелия служат источником субстанций, тормозящих агрегацию тромбоцитов, альфа-2-макроглобулина, вазоактивных полипептидов – регуляторов тонуса сосудов, проницаемости, пролиферации, гемостаза.
Барьерная функция и регуляция проницаемости сосудистой стенки –необходимое условие поддержания местного гомеостаза. Здоровый эндотелий проявляет вазодилататорный фенотип за счет высокой активности факторов релаксации (оксида азота, брадикинина, простациклина PGI2) и ограничения оксидативной роли реактивных форм кислорода. К факторам антикоагулянтной активности эндотелия относят ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-1), факторы свертывания крови Виллебранда и Хагемана, P-селектин. В качестве общего положения можно постулировать, что повреждение эндотелия приводит к дисбалансу процессов вазоконстрикции и вазодилатации, увеличению его проницаемости для провоспалительных элементов, повышенной агрегации пластинок, адгезии лейкоцитов и высвобождению цитокинов.
Структурная и функциональная гетерогенность сосудистой системы позволяет дифференцировать различные реакции эндотелиоцитов на широкий спектр воздействий, что определяет характер поражений при эндотелиальной дисфункции [8]. В лабораторной практике степень выраженности этой дисфункции оценивается по содержанию в крови физиологически значимых веществ, продуцируемых или ассоциированных с эндотелием. Вместе с тем большая часть таких веществ экспрессируется не только эндотелиоцитами, но и другими типами клеток, что снижает специфичность диагностики. Но в целом этот профиль эндотелий-зависимых компонентов служит информативным показателем сосудистой недостаточности [9, 10].
Анализ клинических и патофизиологических данных свидетельствует о том, что как один из главных механизмов развития и прогрессирования COVID-19 следует рассматривать поражение структур эндотелия и соответственно дезорганизацию многих регуляторных функций. Симптомы, которые манифестируются при COVID-19 (высокое артериальная давление, тромбоэмболия, нарушение функции почек, неврологические расстройства, эндокринные дисфункции и др.), указывают на то, что SARS-CoV-2 использует в качестве основной мишени именно сосудистый эндотелий. В образной форме в научной литературе ставится ключевой вопрос: «Is COVID-19 an endothelial disease?» («Является ли COVID-19 заболеванием эндотелия?») [11]. Фрагменты вируса SARS-CoV-2 обнаруживаются в артериальных и венозных эндотелиальных клетках многих органов. Констатируется, что при COVID-19 имеет место нарушение сосудистого барьера, усиление прокоагулятивного механизма, инфильтрация, поражения в форме эндотелиита [12]. Деструкция антитромботической поверхности клеток эндотелия, наряду с ослаблением фибринолиза, способствует развитию общего и диссеминированного тромбогенеза. Дезорганизация биохимических процессов, развивающаяся первоначально в рамках микроциркуляции, провоцирует сосудистые осложнения, микротромбы и капиллярные кровоизлияния [13–15].
Таким образом, сосудистая недостаточность при COVID-19 является прямым следствием эндотелиальной дисфункции, которая имеет полиорганное продолжение в виде нарушений, соответствующих принципу генерализованного расстройства: артериальной гипертензии, поражений миокарда, эндокринных расстройств, неврологических осложнений и др. Понимание процессов молекулярного и клеточного патогенеза, связанного с нивелированием эндотелиальной сосудистой системы, очевидно, требует особого подхода к терапии COVID-19.
НАРУШЕНИЯ ГЕМОВАСКУЛЯРНОГО ГОМЕОСТАЗА
В контакте с эндотелиальными клетками действуют комплексы свертывания крови и фибринолиза, тромбоциты и контролирующие их активность простациклины, тромбоксаны, кинины, эндотелины и др. Иными словами, на территории соприкосновения с эндотелием работает лабильная система гемоваскулярного контроля, влияющая на тонус сосудов, реологию крови, комплексы иммунной поддержки. Среди многих факторов регуляции особая роль отводится VIII фактору свертывания крови (фактору Виллебранда), который секретируется эндотелиальными клетками и влияет на функцию пластинок и процессы тромбогенеза. Было установлено, что уровень этого белка у больных COVID-19 значительно превышен по сравнению с нормой [16].
Важным компонентом биохимической сети гемостаза служит также фактор Хагемана (XII фактор свертывания крови) – узловой компонент калликреиновой и ангиотензиновой систем крови. Роль ренин-ангиотензиновой системы является отдельной темой в анализе патогенеза COVID-19. Комплекс биохимических процессов, начинающихся с каталитической функции двух ангиотензинпревращающих ферментов (АПФ и АПФ 2) и взаимодействия ангиотензинов с рецепторами, определяет контроль микрогемодинамики, гемотрансфузии, цитовоспаления, оксидативного стресса, апоптоза [17].
В нормальных физиологических условиях регуляторную миссию осуществляет функциональное противостояние родственных ферментов – АПФ 2 и АПФ, контролирующих баланс комплекса биохимических систем. От соотношения активности «осей» АПФ2/АПФ зависит контроль вазоконстрикции, цитовоспаления, оксидативного стресса, коагулопатии. Пептидный фрагмент ангиотензин (1–7), связываясь с рецептором MasR, стимулирует комплекс защитных реакций, тогда как фрагмент ангиотензин (1–8) рассматривается в качестве инициатора провоспалительных эффектов. Блокирование АПФ 2 коронавирусом SARS-CoV-2 и соответственно усиление негативной роли АПФ ведет к нарушению гемоваскулярного контроля и гемостаза [18].
Последовательная сеть патохимических процессов позволяет выделить мишени направленной терапевтической коррекции. Клиническая ориентация на равновесие компонентов калликреин-кининовой и ренин-ангиотензиновой систем крови соответствует поддержанию гемоваскулярного баланса и снижению рисков сосудистых осложнений, вызываемых коагулопатией при COVID-19. К лекарственным средствам, способствующим решению этих задач, относятся ингибиторы конвертирующих пептидаз, блокаторы рецепторов ангиотензина и брадикинина, ингибиторы цитокинов, статины и др. [19, 20]. Высказано предположение, что ангионевротический отек легких при COVID-19 связан с активацией кининовых рецепторов B1R и B2R. Следовательно, ингибирование калликреина и блокирование кининовых рецепторов, а также ограничение активации ангиотензиновых пептидов может иметь «смягчающий» эффект в ранний период патогенеза COVID- 19 [21, 22].
«ШТОРМ-2» КАК СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОГО ПОРАЖЕНИЯ
На основании анализа комплекса механизмов, определяющих патогенез COVID-19, было предложено понятие «шторм-2» [23, 24]. Сущность его заключается в генерализованной дисфункции, когда клеточное воспаление сопровождается микротромбозами и геморрагией. Такая негативная картина характерна не только для поражения легких, где воздействие коронавируса оказывается первичным; у пациентов с острым течением COVID-19 выявлены также изменения в головном мозге, кишечнике, сердце, поджелудочной железе, почках и других органах [25].
Таким образом, привычно используемый образ «цитокиноввого шторма» обрастает новыми деталями. «Шторм-2» как расширенное понятие отражает новый уровень рассмотрения комплекса патофизиологических механизмов поражения, вызванных вторжением вируса SARS-CoV-2. Сущность его относится к выделению клеточных и молекулярных дезинтеграций: цитовоспаления, нарушений иммунной защиты и сосудистого контроля, перерастающих в полиорганную патологию. Феномен «шторма-2» подразумевает необходимость применения особой стратегии лечения COVID-19. Ключевой составляющей здесь служит коррекция эндотелия, свертывающей системы и фибринолиза крови, тонуса сосудов, трансцеллюлярной диффузии, поддержание артериального давления через воздействие на соответствующие фармакологические мишени [26].
ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ КАК ПРЕДТЕЧА СИСТЕМНОЙ КОАГУЛОПАТИИ
Инфицирование эндотелиальных клеток у пациентов с COVID-19 приводит к тромботическим осложнениям. На аутопсийном материале выявлено наличие вирусных элементов и скоплений воспалительных клеток с признаками гибели эндотелия. Индукция апоптоза и пироптоза может играть важную роль в этих повреждениях. Как формулируют O’Sullivan J. et al., «эндотелиальные клетки ”оркеструют” коагулопатию, ассоциированную с COVID-19» [27]. Рассматривается последовательная «линейка» процессов, отражающих развитие коагулопатии:
1) активация и повреждение эндотелия связаны с провоспалительными молекулами «цитокинового шторма», но также и с биохимическими каскадами внешнего и внутреннего гемостаза;
2) повреждение эндотелиальных клеток приводит к их отделению от базальной мембраны, потере межклеточных контактов и увеличению проницаемости сосудов;
3) с нарушенной поверхности эндотелия секретируется тромбомодулин, усиливающий прокоагулянтные процессы;
4) повреждение клеток сосудистого эндотелия становится не только предтечей системной коагулопатии. Эти процессы включают также иммунотромбоз – многофакторный феномен гипервоспаления.
ИММУНОТРОМБОЗ: НОВОЕ ПОНИМАНИЕ МЕХАНИЗМА КОАГУЛОПАТИИ ПРИ COVID-19
Результаты постмортальных исследований демонстрируют картину сосудистых повреждений при COVID-19. У большей части тяжелых больных обнаруживались признаки синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови [14], выявлялись множественные сгустки в сосудах. Данные аутопсий указывают на диффузный микротромбоз и внутрисосудистые мегакариоциты в легких, сердце, почках, печени и других органах [28, 29].
Иммунотромбоз представляется в современной медицине в качестве обобщающего принципа механизмов коагулопатии. Термин «иммунотромбоз» предложили Engelmann B. и Massberg S. как сопряжение свертывающей системы и врожденной иммунной системы [30]. Нарушенное взаимодействие между эндотелиальными и иммунными клетками может играть основную роль в развитии COVID-19 как в начальные его периоды (особенно в тяжелых случаях), так и на поздних стадиях заболевания. Вызываемая вирусом SARS-CoV-2 дезорганизация создает порочный круг неконтролируемой активации иммунной системы и экстренного формирования тромбов. Прокоагулянтное состояние вызывает сладж тромбоцитов, высвобождение тканевого тромбопластина, активацию фактора комплемента, формирование внеклеточных нейтрофильных ловушек (NETs) [31].
АКТИВАЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ – КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК COVID-19
У пациентов с тяжелым и средним течением коронавирусной болезни отмечено повышение в крови циркулирующих нейтрофилов. Агрегация этих клеток ведет к формированию сетей ловушек нейтрофилов внутри микрососудов. Появление своеобразных «инженерных» микроконструкций влечет за собой окклюзию, нарушение микроциркуляции и системное повреждение тканей. Маркеры, указывающие на массированное появление нейтрофильных сетей, служат прогнозом тяжелой формы COVID-19 [32, 33]. Формирование множественных сетей нейтрофильных ловушек свидетельствует о сбое механизмов защиты. Этот феномен рассматривается как один из показателей дизрегуляции иммунного механизма при COVID-19 [34].
Так в современной интерпретации выглядит многокомпонентая картина патогенеза, вызываемого SARS-CoV-2. С точки зрения патофизиологии и патобиохимии COVID-19 есть диссонанс большого числа компонентов, функциональных деталей, которые при вирусной агрессии работают как изощренная система уничтожения [23].
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЭТАЖИ КОРРЕКЦИИ ПАТОГЕНЕЗА COVID-19
Исходя из представленных выше данных, характеризующих клеточные и молекулярные механизмы патогенеза COVID-19, и выявления мишеней патологической дизрегуляции, могут быть намечены основные направления терапевтической стратегии при этом заболевании:
- предупреждение внедрения и распространения SARS-CoV-2 с использованием специфических вакцин и химических лигандов;
- ограничения иммунного диссонанса, «цитокинового шторма» и его последствий как факторов генерализации и прогрессирования заболевания;
- восстановление нарушенного баланса биохимических систем АПФ/АПФ2 с реабилитацией антивоспалительных, антитромботических и антигипертензивных механизмов;
- восстановление равновесия в свертывающей и фибринолитической системах крови с воздействием на рецепторные мишени иммуно- и тромбогенеза;
- коррекция иммунологических изменений, возникающих как следствие траснфекции коронавируса, с учетом иммунного фенотипа пациента;
- использование специализированной терапии повреждаемых систем (легких, сердца, мозга, эндокринной системы и др.) для поддержания нормальных функций организма;
- контроль нейродеструктивных и психических проявлений патогенеза COVID-19 с учетом индивидуальных особенностей пациента.
К сожалению, в настоящее время признается, что, несмотря на задействование большой когорты специалистов, возможности терапии COVID-19 все еще весьма ограниченны. При этом в современной научной литературе представлены материалы сотен клинических и научных публикаций, включая исследования in vitro и in vivo, сведения об отдельных случаях заболеваний, данные ретроспективного анализа и метаанализа, а также предложения относительно перспективных инновационных препаратов, которые могут быть использованы для борьбы с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 [35]. Так, рассматривается возможность применения при этой инфекции таких лекарственных средств, как иммуноглобулины и моноклональные антитела, использование реконвалесцентной плазмы и др. На основе изучения молекулярных механизмов патогенеза COVID-19 в рамках триады «патогенез – мишень – препарат» предлагается ингибирование вирусной трансфекции и взаимодействия SARS-CoV-2 с белком АПФ 2, блокирование АПФ 2 с подавлением физиологических эффектов на уровне эндотелия и др. [36].
Новая концепция «репозиционирования лекарств для терапии COVID-19 на базе биоинформационных технологий in silico, in vitro, in vivo…» также может найти применение в лечении коронавирусной патологии. Огромное разнообразие выявляемых молекулярных и клеточных мишеней патогенеза COVID-19, а также вариабельность его клинических проявлений определяют возможность использования тех или иных лекарственных средств для терапии COVID-19 [37, 38].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наряду с первичной драматической атакой вируса на систему легких, наиболее вероятным сценарием развития COVID-19 является повреждение эндотелиальных клеток легких и других органов. Вызываемый SARS-CoV-2 комплекс клеточных дезорганизаций и поражений органов рассматривается как ОРДС провоспалительной этиологии с проявлениями гемодинамической нестабильности, полиорганной дисфункции, неврологического диссонанса. Ключевой составляющей здесь является дисфункция эндотелия и «разлад» управления свертывающей системы крови, тонуса сосудов, трансцеллюлярной диффузии, контроля артериального давления.
Предлагаемый анализ клеточно-молекулярных механизмов отражает негативную последовательность патогенетических процессов при COVID-19, происходящих на молекулярном и клеточном уровне. В основе такого рассмотрения – выявление ключевых моментов регуляторного диссонанса, обозначающих вероятные мишени общей и специализированной терапии. В данном изложении на основе анализа механизмов патогенеза COVID-19 предлагается понятие «шторм-2», которое подразумевает возможность применения разнообразных средств терапии. Сложный характер патогенеза заболевания требует применения как традиционных, так и инновационных подходов.
Эффективное лечение COVID-19, по-видимому, должно строиться на использовании средств этиотропной, патогенетической и других видов терапии с учетом специфичности заболевания и особенностей самого пациента. Ориентация на понимание молекулярного, генетического, клеточного, органного уровней патогенеза новой коронавирусной инфекции и соответственно на выявляемые мишени поражения может рассматриваться как важное требование к современной клинической практике.
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор благодарит профессора, члена-корреспондента РАН В.В. Поройкова за долговременное сотрудничество и помощь в работе над этой статьей.