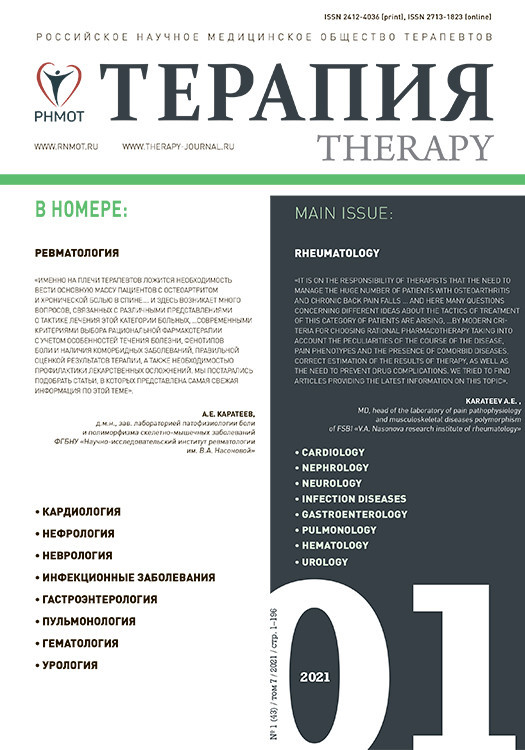По меткому выражению А.П. Чехова, «прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий». Поэтому, обращаясь к истории научных направлений, мы не только восстанавливаем пройденный путь успехов и неудач, но и более ясно осознаем современный этап, намечая вектор будущего развития.
Начало XX в. ознаменовалось целым рядом известных переворотов и потрясений в социальной жизни, в том числе в сфере медицинских знаний, поворотом, когда впервые в истории человечества смертность от неинфекционных заболеваний превысила смертность от инфекционных болезней. Неуклонно увеличивающаяся частота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во II половине XX в. поставила задачу кардиоваскулярной профилактики на лидирующие позиции среди медико-социальных проблем. Обсервационные популяционные исследования позволили выявить наиболее существенные факторы внешней и внутренней среды, определяющие частоту этих заболеваний – так называемые факторы риска. Огромный накопленный материал выдвинул артериальную гипертензию (АГ) на первое место среди факторов риска ССЗ у населения экономически развитых стран. В большинстве стран мира по-прежнему хроническая АГ продолжает оставаться ведущим неинфекционным заболеванием, распространенность которого в мировой популяции составляет 30–45% при неуклонном росте [1]. Распространенность АГ в нашей стране в 1953 г. составляла около 5% [2], в 1985 г. оценивалась на уровне 25% [3], в настоящее время превышает 40% [1]. Очевидно, это связано с увеличением темпа жизни современного человека и социальной дезадаптацией, распространением избыточного веса и ожирения, гиподинамии. На переоценку распространенности данного заболевания влияет также пересмотр его диагностических критериев, снизивших порог артериального давления (АД), при котором выставляется диагноз АГ – фактически со 160 и 95 мм рт.ст. (Geneva WHO, 1978) до 130 и 80 мм рт. ст. (ACC/ AHA, 2017). В настоящее время среди населения США 67 млн пациентов с АГ, примерно 1000 смертей ежедневно связаны с АГ как с непосредственной причиной или предрасполагающим фактором [4]. Среди населения РФ не менее 50 млн взрослых могут быть отнесены к больным гипертонической болезнью (ГБ) [1, 5].
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Вся история изучения АГ характеризуется вектором, направленным на увеличение агрессивности диагностических и терапевтических подходов. Кроме снижения отрезных cut off-параметров, отделяющих норму от патологии, изменения касаются отказа от термина «пограничная гипертензия» с заменой его на рудиментарный термин «высокое нормальное АД», снижения целевого уровня АД, сглаживания различий его нормативов у лиц старческого и пожилого возраста с пациентами моложе 65 лет.
Комбинированная низкодозовая терапия получила распространение в СССР благодаря трудам отечественных ученых – акад. А.Л. Мясникова и его учеников, предложивших первый в нашей стране многокомпонентный препарат для лечения ГБ. С самого начала очевидным оказался тот факт, что в условиях отсутствия эффективных препаратов для контроля АД сочетание в одной таблетке имеющихся фармацевтических средств способно обеспечить приемлемое снижение АД, а небольшие дозы – получить низкий уровень побочных эффектов. А.Л. Мясниковым и его сотрудниками в 1960 г. в клиническую практику для лечения ГБ внедрен препарат под названием «Депрессин», в состав которого входили следующие лекарственные средства: 1) нембутал 50 мг; 2) резерпин 0,1 мг; 3) дибазол 20 мг; 4) гипотиазид 25 мг [2]. Состав был доступен как коммерческий продукт в виде порошка и обладал несомненными преимуществами в силе гипотензивного эффекта в сравнении с монотерапией, что обеспечило его популярность как среди врачей, так и среди пациентов, сохранявшуюся на протяжении как минимум двух десятков лет. Включение нембутала и резерпина отражало представления о ГБ как о нейрогенном заболевании, обоснованном выдающимся отечественным терапевтом Г.Ф. Лангом [6], а также отсутствие действенных лекарственных молекул, конкурирующих по выраженности гипотензивного эффекта на тот период. Из всех компонентов «Депрессина» в наши дни не потерял своей актуальности только гипотиазид, являющийся одним из наиболее частых диуретиков в фиксированных комбинациях антигипертензивных препаратов, хотя и осознается как наиболее слабый из конкурентов, представленных тиазидовыми производными, к которым относят также хлорталидон и индапамид. Под руководством А.Л. Мясникова в Институте терапии АМН СССР проводилась клиническая апробация комбинированного препарата «Депрессин», которая показала его высокую эффективность при лечении пациентов с ГБ вне зависимости от стадии заболевания [7]. В 1964 г. после выхода в свет Приказа Минздрава СССР от 30.04.1964 № 228 с изменениями, внесенными Приказом Минздрава СССР от 11.07.1967 № 554, разрешавшими к применению компоненты, входящих в состав «Депрессина», последний активно внедрялся в широкую медицинскую практику и в течение двух десятков лет демонстрировал свою высокую клиническую эффективность в плане снижения АД. Ряд справочников, монографий и руководств позиционировали «Депрессин» как «сильно действующий вазодилятор, синтезированный в последние годы» наряду с миноксидилом, диазоксидом и нитропруссидом натрия, подчеркивая его высокий терапевтический эффект [8, 9]. Без преувеличения эта фиксированная комбинация приобрела огромную популярность в СССР, ознаменовав прием низкодозовых многокомпонентных препаратов как новый подход к лечению АГ.
В дальнейшем в нашей стране стало практиковаться применение комбинированных препаратов на основе резерпина и его различных сочетаний с диуретиками, ганглиоблокаторами, периферическими вазодилататорами. Широкое применение получили такие препараты, как «Адельфан» (резерпин 0,1 мг, дигидралазин 10 мг); «Бринердин» (резерпин 0,1 мг, дигидроэргокристин 0,5 мг, клопамид 5 мг); «Кристепин» (резерпин 0,1 мг, дигидроэргокристин 0,5 мг, клопамид 5 мг); «Неокристепин» (резерпин 0,1 мг, дигидроэргокристин 0,58 мг, хлорталидон 25 мг); «Трирезид» и «Тринитон» (таблетки одинакового состава: резерпин 0,1 мг, дигидралазина сульфат 10 мг, гидрохлоротиазид 10 мг); «Трирезид К» (выпускался в той же рецептуре, что и «Трирезид», с дополнительным содержанием в каждой таблетке калия хлорида 350 мг); «Норматенс» (резерпин 0,1 мг, дигидроэргокристин 0,5 мг, клопамид 5 мг); «Дивенал» (дибазол 20 мг, папаверина гидрохлорид 20 мг, фенобарбитал 15 мг); «Амазол» (амидопирин 300 мг, дибазол 20 мг); «Теодибавирин» (теобромин 150 мг, дибазола 20 мг, папаверина гидрохлорид 20 мг); «Теодинал» (теобромин 250 мг, дибазол 20 мг, фенобарбитал 20 мг); «Адельфан-эзидрекс» (резерпин 0,1 мг, дигидралазин 10 мг, гидрохлоротиазид 10 мг) и «Адельфан-эзидрекс-К» (выпускается в той же рецептуре, что и «Адельфан-эзидрекс», с дополнительным содержанием в каждой таблетке калия хлорида 600 мг) [8]. Последние два препарата до сих пор выпускаются индийской фармпромышленностью Индии.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ
В 70–80 гг. XX в. с развитием фармакотерапии как науки и в процессе синтеза новых лекарственных молекул в арсенале специалистов стали появляться новые препараты и соответственно их новые комбинации. Пропранолол, синтезированный британским ученым Black J.W. в 1960-х гг., начинает производиться во многих странах, в том числе в СССР, и активно внедряется в практику [10].
За рубежом в это время главным образом декларировалась концепция ступенчатого подхода: согласно ей, первой ступенью медикаментозного лечения АГ выступала монотерапия β-блокаторами и диуретиками, и только на второй ступени (при неэффективности монотерапии) допускалась их комбинация [11].
Интенсивно изучались вопросы и дифференцированного подхода к назначению гипотензивных препаратов, но, пожалуй, наиболее прагматичным оказалось выделение фенотипов АГ на основе возраста. Было установлено, что АД молодых пациентов более чувствительно к β-адреноблокаторам, пожилых – к диуретикам; такой вид гипертензии получил название сольчувствительной, поскольку выведение натрия под действием салуретиков было сравнимо с гипотензивным эффектом при ограничении потребления хлорида натрия [12]. Действительно: любое увеличение АД приводит к так называемому прессорному натрийурезу, вызывающему уменьшение циркулирующего объема крови. У пожилых пациентов этот механизм недостаточен в силу уменьшения массы функционирующих нефронов пропорционально возрасту. У представителей негроидной расы ситуация схожа в силу генетически более низкой массы почечной паренхимы. В последующем фактор возраста был использован в европейских рекомендациях по лечению АГ [13].
Внедрение принципов доказательной медицины, потребовавшее организации крупных рандомизированных клинических исследований, вывело фармакотерапию хронических заболеваний на новый уровень развития. Доказательства статистической базы многолетних многоцентровых протоколов, а не патогенетические предпосылки легли в основу суждений о пользе того или иного фармпрепарата. Однако долгое время, вплоть до конца XX в., на западе основным оставался ступенчатый подход, который подразумевал использование в начале лечения АГ того или иного монопрепарата первой линии и лишь затем переход к лекарственным комбинациям [14]. Железный занавес и отсутствие должной коммуникации между специалистами СССР и западных стран закрепляли различие в тактике ведения пациентов с АГ в пользу фиксированных комбинаций на территории СССР. Последующие негативные социальные процессы на территории бывшего СССР привели к зависимости от импортируемых фармпрепаратов, перечень которых пополнялся новыми классами гипотензивных средств. При этом внедрение препаратов из групп ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов к ангиотензину (БРА), объединенных термином «блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)», стало существенным прорывом.
Появление дигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов (БКК), ИАПФ, БРА и внедрение их в клиническую практику привело к пониманию того, что все они обладают схожим антигипертензивным эффектом и вполне могут претендовать на место средств первой ступени. В 2006 г. британские исследователи (рекомендации NICE) вывели β-адреноблокаторы из списка препаратов первой ступени в связи с меньшим вазо- и кардиопротективным действием, а также неудовлетворительным профилактическим эффектом в отношении цереброваскулярных осложнений у пожилых [13].
Ценность препаратов как средств монотерапии для коррекции АД и их значение в плане влияния на кардиоваскулярные риски и исходы изучались в многочисленных рандомизированных клинических исследованиях: LIFE, 2002 г. (атенолол в сравнении с лозартаном), VALUE, 2003 г. (амлодипин vs валсартан), ONTARGET, 2007 г. (рамиприл vs телмисартан) и т.д. Наиболее крупным стало исследование ALLHAT (2002), в котором одновременно сравнивались 4 антигипертензивных препарата из разных групп: амлодипин, лизиноприл, хлорталидон и доксазозин [15].
Вместе с возросшими возможностями влияния на неизученные ранее механизмы АГ новых препаратов оказалось, что каждый из них, взятый по отдельности, не обеспечивает лучший контроль АД, чем, например, диуретик хлорталидон, известный с 70-х гг. прошлого века. Наряду с этим выяснилось, что новые лекарственные средства, обеспечивая одинаковый со старыми препаратами гипотензивный эффект, способны улучшать профиль кардиоваскулярных осложнений. Стало понятным, что плейотропизм наиболее ярко проявляется у блокаторов РААС посредством ингибирования множественных неблагоприятных эффектов ангиотензина II (воспалительного, фибротического, дисфункции эндотелия, сопутствующей активации нейрогормонов: норадреналина, альдостерона и др.). С другой стороны, был доказан и обоснован тот факт, что главным положительным эффектом гипотензивных препаратов является само снижение АД, достижение его целевых уровней, и только в этом случае плейотропизм позволяет получить дополнительные преимущества. Парадоксально, что многократно возросшие возможности фарминдустрии сопровождаются увеличением бремени АД.
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА МУЛЬТИТАРГЕТНОГО ПОДХОДА В ПЕРВИЧНОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
С обозримого периода 70-х гг. прошлого века до первой декады XXI в. ступенчатый подход доминировал как стратегия лечения АГ. Концепция низкодозовой фиксированной комбинации была применена в российских условиях в виде комбинаций периндоприла и индапамида, которые стали доступны с конца последней декады XX в. Действительно: вышеуказанные компоненты хорошо изучены в крупных международных рандомизированных клинических исследованиях в отличие от «Депрессина». Да и само сравнение современного препарата с архаичной комбинацией не совсем корректно. Однако речь идет о концепции, и здесь приоритеты отечественной терапевтической школы именно нами должны осознаваться и отстаиваться. Довольно быстро, уже к 2004 г., препараты на основе периндоприла и индапамида «обзавелись» еще двумя дозировками, вплоть до полной суточной дозы в содержимом одной таблетки. Этот факт отражает тенденцию к агрессивной гипотензивной терапии, которая достигается как увеличением дозировок препаратов, входящих в состав фиксированных комбинаций, так и увеличением количества лекарственных средств в многокомпонентных таблетках.
Тенденцией современного этапа лечения АГ является применение не только двухкомпонентных (ИАПФ или БРА + тиазидовый диуретик, БКК + ИАПФ или БРА, β-адреноблокатор + тиазидовый диуретик, β-адреноблокатор + БКК, БКК + тиазидовый диуретик), но и трехкомпонентных антигипертензивных препаратов (ИАПФ или БРА + БКК + диуретик).
Базируясь на колоссальном фактическом материале последних лет, следует приветствовать концепцию, которая была изложена в рекомендации 7 профессиональных сообществ США 2017 г., снизивших планку АД, определяющую наличие АГ [16]. Не только осознание АГ как важнейшей детерминанты ССЗ, но и накопленные данные о безопасности современных фармпрепаратов положены в основу агрессивного подхода к лечению заболевания, тенденцию сближения с которым обнаруживают и рекомендации ЕОК 2019 г. [17]. Необходимость достижения более низкого целевого АД – меньше 130 и 80 мм рт.ст. – может быть решена исключительно применением многокомпонентных препаратов. Пожалуй, самое главное в том, что такие препараты столь же безопасны, как и монотерапия, и при этом подбор рациональных комбинаций не представляет большой сложности. Исследование SPRINT (2015) в группе с жестким контролем АД показало, что не стоит бояться возможных побочных эффектов препаратов для лечения АГ – они не ассоциированы со смертностью. С другой стороны, современная гипотензивная терапия является «более точно антигипертензивной». То есть способность препаратов снижать АД пропорциональна исходной его величине. Колоссальная распространенность АГ и ее медико-социальное значение определяют именно клинико-эпидемиологический подход в первичной профилактике. Современные Европейские рекомендации 2019 г. закрепляют увеличение роли фиксированных комбинаций. Но и сами фиксированные комбинации претерпели эволюцию. Она заключается в том, что сначала они были низкодозовыми из-за опасности побочных эффектов, которые для всех их компонентов дозозависимы. Теперь же доступен широкий спектр фиксированных комбинаций вплоть до полнодозовых как отражение доказательной базы, свидетельствующей об их безопасности.
Внедрение новых методов измерения АД с помощью автоматических приборов привело к появлению новых дефиниций, в частности, маскированной АГ у леченых и нелеченых пациентов. Эта дефиниция отражает тот факт, что врачебные измерения АД не позволяют точно определить наличие АГ у пациента и точно ответить на вопрос, насколько эффективно он лечится. Традиционно данные регистровых исследований свидетельствуют о низком должном контроле АГ в российской популяции. Доступность домашнего мониторирования с помощью электронных коммерческих устройств, валидированных для клинического использования, служит основой для оптимизированного лечения АГ на основе фиксированных гипотензивных комбинаций и меняет паттерналистическую парадигму участия врача в этом процессе.
Большим достижением превентивной кардиологии стало внедрение методов оценки кардиоваскулярного риска на основе калькуляции индивидуальных факторов риска, например, системы SCORE. Оценка вероятности ССЗ стала неотъемлемой частью современного диагноза, она определяет потребность в профилактических мерах, включая медикаментозные, и их агрессивность. Система SCORE применяется у всех лиц из общей популяции, начиная с 40-летнего возраста, без перенесенных в прошлом заболеваний, связанных с атеросклерозом: инфаркта миокарда, стенокардии, хронической сердечной недостаточности, инсульта и транзиторных ишемических атак. Высокий кардиоваскулярный риск соответствует прогнозируемой смертности в течение последующих 10 лет с вероятностью 5–9%, очень высокий риск – 10% и более. При этом число прогнозируемых не фатальных событий, представленных выше, в 3–4 раза больше. Пол, возраст, систолическое АД, курение и общий холестерин крови – важнейшие детерминанты риска. Несомненно, этот валидированный инструмент хорошо стратифицирует и прогнозирует групповой сердечно-сосудистый риск, но не идеален в отношении конкретного индивидуума. Тем не менее и обобщенные данные способны впечатлить: в возрасте 55–64 лет 93% мужского населения России относится к группе высокого или очень высокого риска [18].
Хотя распространенность АГ растет как в нашей стране, так и за рубежом, количество прямых ее осложнений, ведущих к смертности и инвалидизации, например, геморрагического инсульта, существенно сократилось. Вместе с тем на первое место прочно вышли проявления атеросклероза. Связь этих двух патологий в нашей стране впервые была определена как клиническая проблема акад. АМН СССР А.Л. Мясниковым. Очевидно, АГ выступает признаком метаболического неблагополучия, что отражено в концепции метаболического синдрома, и способствует дисфункции сосудистого эндотелия, запускающего каскад атерогенных механизмов в артериальной системе жизненно важных органов и на периферии. Сердечно-сосудистый континуум, связывающий воедино этапы ССЗ, является огромным достижением кардиологии как науки. Трансформация сосудистой стенки в ходе возрастного ремоделирования создает основу для патологических процессов, которые, в свою очередь, ускоряют процессы старения. АГ служит ключевым фактором в патогенезе возраст-зависимых заболеваний, наиболее важными из которых являются болезни, ассоциированные с атеросклерозом: ИБС, цереброваскулярные болезни, болезни периферических артерий, сахарный диабет. Возможность затормозить и в некоторой степени даже повернуть вспять процессы ремоделирования сосудистой стенки путем коррекции АД доказаны в отношении позитивной динамики тканевых биомаркеров – толщины комплекса интима-медиа и скорости распространения пульсовой волны. Обратное развитие гипертрофии левого желудочка, профилактика хронической сердечной и терминальной почечной недостаточности также убедительно свидетельствуют об эффективности гипотензивной терапии. Снижение кумулятивной летальности под воздействием гипотензивной терапии – хорошо доказанный факт во всех возрастных категориях населения.
Каким же образом можно суммировать достижения кардиологии как науки в кардиоваскулярной профилактике? Тремя китами современной сердечно-сосудистой профилактики являются: а) приверженность к здоровому образу жизни; б) должная гипотензивная терапия с достижением целевых цифр АД; в) постоянное многолетнее применение статинов в низких дозах.
Статины как мощный компонент первичной профилактики ССЗ должны использоваться у пациентов высокого риска. Новейшие исследования HOPE-3 свидетельствуют об эффективности розувастатина в дозе 10 мг/сут в первичной профилактике ССЗ и смертности и у пациентов с умеренным риском. История комбинации антигипертензивных препаратов со статинами началась после исследования ASCOT (2006), в котором была доказана эффективность добавления всего лишь 10 мг аторвастатина к гипотензивной терапии у пациентов с АГ. Часто используемой на практике комбинацией гипотензивного средства и статина, которая выпускается как иностранными, так и отечественными производителями, стало сочетание амлодипина и аторвастатина. К сожалению, фармакокинетические свойства каждого из этих компонентов при совместном приеме менялись в сторону увеличения площади их концентрации в крови: например, для аторвастатина этот параметр возрастал в 2–3 раза под влиянием амлодипина, так как последний блокирует фермент системы цитохрома, метаболизирующий аторвастатин. Потенциально это может приводить к большой межиндивидуальной вариабельности эффективности и возрастанию побочных эффектов, свойственных каждому из компонентов. В то же время на российском лекарственном рынке для лечения АГ высокого риска зарегистрирована комбинация амлодипина, лизиноприла и розувастатина, опыт использования которой свидетельствует об отсутствии межлекарственного взаимодействия активных веществ.
Мы являемся свидетелями того, что концепция фиксированных комбинаций для пациентов с АГ трансформируется в концепцию polypill, которую можно определить как мультитаргетную терапию. Одним из первых статинов, попавших в это семейство комбинированных фармацевтических средств, стал розувастатин, что обусловлено огромной доказательной базой, подтверждающей его высокую эффективность и безопасность в дозах 10–20 мг/сут в плане первичной профилактики (исследования JUPITER, 2012, HOPE-3, 2016).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тандем ГБ и атеросклероза может быть разрушен благодаря широкому применению описанного терапевтического подхода, который должен стать именно популяционным. В его основе – данные диспансерного осмотра, суммированные в виде уровня сердечно-сосудистого риска. Необходимо осознание того факта, что диспансерные осмотры как важнейший инструмент профилактической медицины имеют значение только в том случае, если меняют воздействие на компоненты выявленного высокого кардиоваскулярного риска у конкретного пациента. Комплексное воздействие на каскад факторов патогенеза ССЗ с применением мультитаргетных препаратов – один из путей решения важной государственной задачи в области уменьшения смертности от неинфекционных заболеваний. Именно концепция polypill способна преодолеть пропасть, существующую между достижениями кардиологии как науки и практическим использованием статинов у пациентов высокого риска, большинство из которых имеют АГ. По крайней мере будущее кардиологии видится не столько в борьбе монопрепаратов, сколько в соперничестве фиксированных комбинаций, расцвет которых мы наблюдаем. Ориентируясь на результаты крупных международных рандомизированных клинических исследований, которые составляют доказательную базу и фундамент клинической кардиологии, мы не должны забывать и о вкладе отечественных ученых, в частности акад. А.Л. Мясникова, предвидевшего важнейшую роль применения фиксированных комбинаций у пациентов кардиологического профиля.