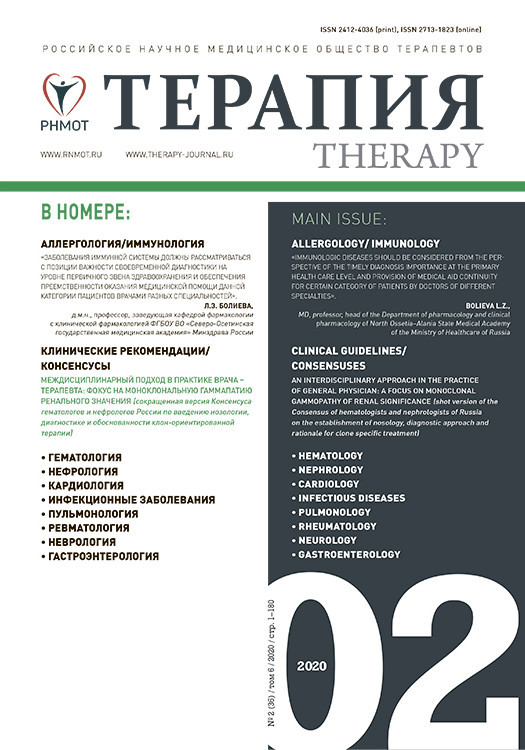В 2020 г. исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося отечественного терапевта, педагога и ученого, одного из основателей Общества российских терапевтов, профессора Василия Дмитриевича Шервинского. Под знаком этой памятной даты проходят все мероприятия Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) в нынешнем году.
В 2020 г. исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося отечественного терапевта, педагога и ученого, одного из основателей Общества российских терапевтов, профессора Василия Дмитриевича Шервинского. Под знаком этой памятной даты проходят все мероприятия Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) в нынешнем году.
Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов… (А.П. Чехов)
«Откуда мы родом? Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны…» – заметил Антуан де Сент-Экзюпери. Василий Дмитриевич родился 14 января (1 января по старому стилю) 1850 г. в Омске. История его семьи, к сожалению, известна только по отцовской линии. Его бабушка – Пелагея Павловна Чебышева, представительница старинного дворянского рода, – вышла замуж за выходца из Польши Яна Матиаса (Иоганна Матвея) Шервинского, служившего в России штаб-лекарем (старшим полковым врачом). Родители Пелагеи Павловны этот брак считали позором для семьи, и не столько из-за того, что жених был небогат, сколько из-за его профессии: в те времена состоятельные люди лечились у «заграничных» (чаще немецких) врачей, а «своих» ценили чуть выше прислуги. Пойдя против воли родителей, решительная в своей любви и поступках Пелагея Павловна, видимо, большого приданого не получила, и ее детям впоследствии приходилось зарабатывать на жизнь своим трудом, что считалось зазорным в высшем обществе.
Ее сын, холостой офицер Дмитрий Иванович Шервинский, во время службы на Кавказе заболел малярией и по совету доктора Арендта (лейб-медика Николая I) перевелся в Сибирь в надежде поправить здоровье сменой климата. В Омске он встретился с молодой замужней женщиной Екатериной Васильевной Панфиловой и полюбил ее. Любовь была взаимной, но оформить отношения им было невозможно, поэтому их сын, Василий Дмитриевич Шервинский, оказался незаконнорожденным…
Вопреки надежде здоровье Дмитрия Ивановича в Сибири продолжало ухудшаться. Он решил уволиться, вернуться в Москву и заняться воспитанием сына, который до этого времени рос у матери. Вероятно, надеясь, что в Москве с отцом ребенок получит лучшее образование и проживет более достойную жизнь, Екатерина Васильевна отпустила своего трехлетнего Васю в далекое путешествие. Больше им не суждено было встретиться.
Еще в юности Дмитрий Иванович задумывался и даже написал трактат о нравственном образовании, в котором полагал, что все самые высокие качества души воспитывают у детей их матери. Теперь ему предстояло взять на себя роль обоих родителей.
…Василий Дмитриевич вспоминал, как заботливо отец варил ему во время долгого пути манную кашу на спиртовке, а по прибытии в Москву поехал с ним в Ростов Ярославский поклониться мощам своего духовного покровителя Дмитрия Ростовского и просить его помощи маленькому сыну. Потом Дмитрий Иванович оставил мальчика в Москве у своих родственников Чебышевых, по делам (видимо, хлопотать о пенсии – он уволился в чине подполковника) уехал в Петербург, где остро заболел и скоропостижно умер в Обуховской больнице. После него остались только его личные вещи и счет за похороны. Повзрослев и став врачом, Василий Дмитриевич оплатит этот счет родственнику, тем самым отдав отцу последний сыновий долг.
Узнав о смерти Дмитрия Ивановича, его сестра Анна Ивановна Шервинская, работавшая смотрительницей в Александрийском детском приюте, забрала мальчика к себе. Ей было около 40 лет, замуж она не выходила и воспитание сына любимого брата взяла на себя. В приюте на Бутырском валу у нее была маленькая служебная квартирка и очень скромное жалование, на которое им теперь предстояло жить вдвоем.
Как и ее мать, тетя маленького Васи оказалась способной на решительные судьбоносные поступки: оставшись не замужем, она не стала приживалкой у богатых родственников, а из деревенской глуши одна поехала в Петербург и, закончив там курсы, смогла выдержать экзамен на звание смотрительницы детского приюта. Вспоминая о своем путешествии, она потом говорила: «Да ведь и сообщение с Петербургом тогда уже установилось очень удобное: что же, сядешь в Москве в дилижанс, а через трое суток уже в Петербурге» [1].
В применяемом в то время «Положении о детском приюте», разработанном в 1839 г. В.Ф. Одоевским [2], говорилось, что в приютах важно не только присматривать за детьми, но и заботиться об их воспитании, вырабатывать у них навыки дисциплины, опрятности, привычку трудиться. При выборе смотрительницы обращалось внимание «не столько на ее звание, сколько на ее душевное образование; чистая нравственность, нрав тихий и миролюбивый, здравый смысл и врожденное чувство любви к ближнему – вот необходимые качества в женщине, долженствующей быть в некотором смысле матерью многочисленного семейства, составленного из детей, ей чуждых... За сим уменье читать, писать и считать на счетах, как равно известнейшие женские рукоделия, – вот все познания, кои требуются от смотрительницы приюта в том предположении, что любовь к своей обязанности заставит ее читать со вниманием те книги, в которых можно найти полезные для сих заведений сведения». Именно такой оказалась тетя Василия Дмитриевича. В то время в Москве открывался первый приют для детей работающих родителей, где Анна Ивановна и получила место смотрительницы.
Дети приходили в приют утром, здесь их кормили и обучали грамоте, счету, пению и гимнастике.
В вопросах нравственного воспитания руководствовались православием.
Поскольку Вася Шервинский начал читать на четвертом году жизни, премудрости приютского обучения он одолел быстро и вместе с другими детьми занимался только гимнастикой. Их преподаватель служил в кордебалете Большого театра, и его уроки Василий Дмитриевич оценивал впоследствии очень высоко. Среди служащих и прислуги в приюте было много добрых и порядочных людей. Как и тетушка, они дарили мальчику ласку и тепло. Принимая сочувствие, он сам учился сочувствовать другим, любил подвижные игры и… театр! Эту любовь Василий унаследовал от тетушки – она в складчину со знакомыми покупала недорогую ложу и всегда брала племянника с собой. А в юности он с восторгом высиживал оперу или спектакль на галерке с друзьями. Вася много читал, Анне Ивановне постоянно приходилось искать ему новые книги. Временами гостившие у нее молодые племянницы (двоюродные сестры Васи), работавшие в Москве гувернантками, учили его французскому и немецкому языкам. Основам математики за небольшие деньги, которые могла заплатить Анна Ивановна, удавалось немного обучаться у ее знакомых. Но систематического образования до 10 лет у мальчика не было. Когда пришло время подумать об этом всерьез, его приемная мать не остановилась на варианте бесплатного обучения в ремесленном училище, который был уготован приютским детям, и, несмотря на материальные затруднения, отдала его в гимназию, рассудив, что позже Вася сам выберет себе профессию по душе.
…В гимназии со временем Васю Шервинского как сироту перевели на бесплатное обучение. Рано осознав ценность знаний, он серьезно относился к занятиям. К четвертому классу учителя уже рекомендовали его как репетитора для отстающих учеников. Он начал зарабатывать, жизнь у них с тетушкой стала легче. Его любимыми предметами были физика, химия, ботаника и математика (кстати, Вася встречался у Анны Ивановны со своим двоюродным дядей – знаменитым математиком Пафнутием Львовичем Чебышевым).
Окончив в 1868 г. с золотой медалью Третью московскую классическую гимназию, Василий Дмитриевич, по его собственному признанию, «недурно вообще подготовленный, особенно по математике и физике, и приученный к труду и самостоятельности» [1], выбрал медицину и поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета (ИМУ; ныне – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова). Много лет спустя, Василий Дмитриевич замечал, что цель медицинского университетского образования – подготовка «мыслящих врачей, а не практически натасканных фельдшеров». На младших курсах особенно важно не перегружать студентов ненужными для понимания сути вещей деталями, а давать «многое в немногом». В этом направлении в начале 4 курса необыкновенно ценными для развития клинического мышления студентов были лекции директора факультетской терапевтической клиники, профессора Г.А. Захарьина. Здесь перед студентами наглядно, с демонстрацией больного представляли картину совершающихся в организме болезненных процессов и логически обосновывали, что должен делать врач в конкретной ситуации. Сама лекция «была проста по изложению и легко усваивалась» [1]. Сложных случаев с запутанными диагнозами студентам пока не предлагали, к ним приступали уже на 5 курсе госпитальной клиники.
...Василий Дмитриевич окончил университет с отличием в 1873 г., получив звание лекаря и должность помощника прозектора кафедры патологической анатомии ИМУ, где его руководителем стал выдающийся отечественный патоморфолог, профессор Иван Федорович Клейн. Знавшие И.Ф. Клейна всегда вспоминали о нем как о человеке большой души, необыкновенно чутко и внимательно относившемся к нуждам преподавателей и студентов [3].

На зданиях многих анатомических театров Европы есть надпись: «Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae (Это место, где смерть охотно помогает жизни)». Для молодого врача это были не пустые слова. Изучая следы болезней и вникая в их патогенез, он стремился помогать живым больным. Понимая научное рвение Шервинского, профессор позволил ему сочетать кафедральный труд с посещением госпитальной терапевтической клиники А.А. Остроумова, а также ординаторской работой в Старо-Екатерининской и Шереметьевской больнице (ныне НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского). На кафедре же Василий Дмитриевич читал университетский курс лекций по частной патологии, важной составляющей которого был разбор больных.
Важнейшие вехи дальнейшей профессиональной деятельности В.Д. Шервинского отражены в таблице. О его плодотворной и неутомимой деятельности написано хорошо и подробно [4–7]. Характерная черта его трудов – постоянное внимание к взаимодействию внутренних и внешних факторов, определяющих разнообразие клинических проявлений при одном и том же заболевании (туберкулезе, ревматизме и т.д.) [4].
Остановимся лишь на некоторых моментах. Понимая биосоциальную природу людей и многих болезней, В.Д. Шервинский шел от патоморфологии к терапии, от восхищения талантом врача-одиночки Г.А. Захарьина к сплочению коллег в борьбе с недугами человеческого организма и общества. Изучая патоморфологию (в ИМУ и во время стажировки за границей у ведущих европейских специалистов в области медицины Ю.Ф. Конгейма, Э.А.Г. Штрюмпеля, П.К.Э. Потена, Ж.М. Шарко), он параллельно уделяет самое серьезное внимание терапии и со временем становится ординарным профессором кафедры частной патологии и терапии.
Благодаря содействию В.Д. Шервинского в это время университет получил пожертвования Варвары Андреевны Алексеевой, на которые была выстроена на Девичьем поле Общая клиническая амбулатория (ныне исторический музей Сеченовского университета) для лечения приходящих пациентов и преподавания частной патологии и терапии внутренних болезней. Амбулатория предназначалась для изучения и лечения внутренних болезней, однако профессорам других специальностей также предоставлялась возможность вести занятия и оказывать помощь больным. Кафедра получила собственную прекрасно устроенную амбулаторию с большой аудиторией, кабинетами и лабораторией. В амбулатории проводилось лечение электричеством, массажами, водными процедурами. Амбулаторию открыли 27 января 1896 г., и ее первым директором стал профессор
В.Д. Шервинский. При проведении занятий со студентами он половину времени (4 ч) отводил на изложение систематического курса, другую половину – на практические занятия с больными. В руководстве амбулаторией В.Д. Шервинский проявил себя не только как выдающийся клиницист, но и умелый организатор.
С 1899 до 1907 г. Шервинский – ординарный профессор кафедры и директор факультетской терапевтической клиники (ФТК). Вместе со своим сотрудником и преемником (с 1907 г.), профессором Леонидом Ефремовичем Голубининым Василий Дмитриевич создал здесь школу терапевтов, среди выпускников которой были Максим Петрович Кончаловский и Егор Егорович Фромгольд.
Еще молодым прозектором Василий Дмитриевич провел два вскрытия умерших больных у великого терапевта Г.А. Захарьина. Оба раза диагнозы не совпали с прижизненными. Здесь не было вины лечащего врача: методов дифференциальной диагностики сходно текущих заболеваний тогда не было. Поэтому в школе Шервинского–Голубинина особое значение придавалось новым лабораторно-инструментальным методам диагностики. Была решена важнейшая задача по переоборудованию ФТК: в начале XX в. клиника приобрела рентгеновский аппарат и экраны для усиления контрастности снимков, желудочный зонд, приборы для измерения артериального давления, азотистого обмена, сахариметр, новейшие микроскопы, центрифуги и многое другое. Клиника была в Москве пионером использования серологических методов и рентгенодиагностики, содействовала разработке и практическому применению бактериологических и биохимических методов диагностики, аппаратной физиотерапии и водолечения, развитию курортного дела. Ведущими направлениями лечебной и диагностической работы стали вопросы физиологии и патологии обменных процессов, сахарного диабета, болезней желудочно-кишечного тракта, почек, системы крови и др. При этом решающая роль в постановке научно-исследовательской работы принадлежала
В.Д. Шервинскому, а во врачебно-педагогическом воспитании учеников – Л.Е. Голубинину [6].
Совместная работа Шервинского и Голубинина в клинике продолжалась и после 1907 г., когда заслуженный профессор за выслугой лет ушел с должностей профессора кафедры и директора клиники, но остался ее почетным директором, проводил клинические обходы и научные конференции, читал лекции по болезням желез внутренней секреции.
 Научно-общественная активность В.Д. Шер-винского была разнообразной и плодовитой. Уже в 1876 г. он принял участие в организации врачебных объединений в качестве члена-учредителя и заместителя председателя Московского медицинского общества (с 1895 г. – Московское терапевтическое общество – МТО), а далее неизменно в продолжении 25 лет с 1899 г. являлся его председателем. Под началом Шервинского в этом обществе были организованы комиссии по изучению санитарного состояния городских районов, обследованию фабрик, пекарен, водоснабжения, канализации, курортов и других общественно важных предприятий для борьбы с такими социально значимыми проблемами, как туберкулез, эпидемии чумы и холеры. По его инициативе совместно с хирургами обсуждались пограничные медицинские проблемы (аппендицит, язва желудка, беременность).
Научно-общественная активность В.Д. Шер-винского была разнообразной и плодовитой. Уже в 1876 г. он принял участие в организации врачебных объединений в качестве члена-учредителя и заместителя председателя Московского медицинского общества (с 1895 г. – Московское терапевтическое общество – МТО), а далее неизменно в продолжении 25 лет с 1899 г. являлся его председателем. Под началом Шервинского в этом обществе были организованы комиссии по изучению санитарного состояния городских районов, обследованию фабрик, пекарен, водоснабжения, канализации, курортов и других общественно важных предприятий для борьбы с такими социально значимыми проблемами, как туберкулез, эпидемии чумы и холеры. По его инициативе совместно с хирургами обсуждались пограничные медицинские проблемы (аппендицит, язва желудка, беременность).
Одним из интересных и значимых направлений работы МТО стало создание комиссии по борьбе с алкоголизмом. По его словам, «...обязательное ознакомление об алкоголе в школах всех типов безусловно необходимо и должно быть признано одной из наиболее действенных мер по борьбе с алкоголизмом». Ученый выступал с этой программой МТО в 1910 г. на противоалкогольном съезде: «Вдумываясь в причины болезней, от коих страждет человечество, и в возможность их устранения, приходишь к заключению, что усилиями общественных организаций по указаниям науки человечество могло бы довольно успешно бороться с причинами своих скорбей. Кто может сомневаться в том, что в настоящее время наука дала нам возможность бороться с эпидемическими заболеваниями гораздо более успешно, чем это было не далее, как 50–60 лет тому назад? Разве мириады холерных вибрионов делают теперь такие победоносные шествия, как, например, это было в 30-х, 40-х и даже 70-х годах прошлого столетия? Разве чума производит былые опустошения?... Если представляется вероятным и возможным успешно бороться с инфекциями, то с болезнями от внешних отравлений, как никотинизм и алкоголизм, и говорить нечего: здесь победа должна быть еще более легкой» [8].
Но... с привычками людей бороться оказалось сложнее, чем с бактериями.
По инициативе Василия Дмитриевича было создано Общество съездов Российских терапевтов и основано Общество российских терапевтов, ныне Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ). Путь к этому обществу оказался долог.
...8 января 1902 г. во время Пироговского съезда врачей в Москве Василий Дмитриевич, будучи председателем секции по внутренним болезням, в перерыве между заседаниями предложил независимо от Пироговских съездов проводить специальные съезды по вопросам внутренней медицины. Предложение было сочувственно принято членами секции. На том «историческом завтраке» присутствовало 26 терапевтов, в том числе Эмилий Владимирович Готье-Дюфайе, Алексей Петрович Ланговой, Василий Ефимович Предтеченский. В течение 1902 г. был разработан проект устава съездов, подписанный
61 врачом. Вместе с прошением об утверждении проект был подан в Министерство внутренних дел. Никто не сомневался в скором получении положительного ответа, однако в мае 1904 г. был получен официальный отказ в проведении съезда без указания чиновниками его причины.
Революционные события 1905 г. приостановили на время попытки организации съездов. Однако 8 декабря 1908 г. на заседании Совета Московского терапевтического общества этот вопрос был поднят вновь. Отчасти измененный проект устава был разослан медицинской общественности, а согласие быть учредителями съезда выразили уже 154 человека, среди них выдающиеся терапевты Э.В. Готье, А.Б. Фохт, Д.Д. Плетнев, В.Е. Предтеченский, А.П. Ланговой, А.А. Кисель, М.П. Кончаловский.
1 августа 1909 г. канцелярия МВД признала возможным созыв съезда с условием, «чтобы разрабатываемые на съезде вопросы и доклады касались бы исключительно области терапевтики».
Из воспоминаний М.П. Кончаловского: «В организации этого съезда я деятельно помогал В.Д. Шервинскому и секретарю съезда Г.А. Левенталь. Характерны для того времени бесконечные хлопоты о разрешении этого съезда... Даже когда съезд был разрешен, мне пришлось идти к генерал-губернатору, чтобы он разрешил вставить еще доклад об аппендиците. Тяжелое впечатление произвела на меня обстановка в его канцелярии, когда я два часа ожидал, пока вышел генерал и стал обходить просителей и что-то невнятное буркнул, когда я изложил ему суть моего посещения. Все время боялись крамолы» [10].
 Наконец, 19 декабря 1909 г. в здании Московского Императорского университета первый съезд российских терапевтов был открыт. Его председателем избрали профессора Василия Николаевича Сиротинина. В работе съезда приняло участие около 330 человек. В приветственном слове председатель организационного бюро съезда Василий Дмитриевич Шервинский сказал: «Позвольте мне… выразить пожелание, чтобы этот первый съезд российских терапевтов был началом бесконечного ряда таких съездов, чтобы эти съезды все больше и больше объединяли товарищей врачей, работающих в избранной ими специальности…».
Наконец, 19 декабря 1909 г. в здании Московского Императорского университета первый съезд российских терапевтов был открыт. Его председателем избрали профессора Василия Николаевича Сиротинина. В работе съезда приняло участие около 330 человек. В приветственном слове председатель организационного бюро съезда Василий Дмитриевич Шервинский сказал: «Позвольте мне… выразить пожелание, чтобы этот первый съезд российских терапевтов был началом бесконечного ряда таких съездов, чтобы эти съезды все больше и больше объединяли товарищей врачей, работающих в избранной ими специальности…».
На съезде прозвучало 56 докладов, был разработан и принят Устав Общества российских терапевтов, который в 1910 г. был зарегистрирован и внесен в реестр юридических лиц, а в 1911 г. опубликован [9]. И вот уже более 100 лет Общество российских терапевтов (РНМОТ) собирается на свои съезды, теперь уже Национальные конгрессы, чтобы обсуждать проблемы внутренней медицины.
Помимо многогранной врачебной практики, охватывающей всевозможные разделы терапии, В.Д. Шервинский заложил основы отечественной эндокринологии, обобщив опыт ведения больных с заболеваниями желез внутренней секреции, подготовив многочисленные доклады на съездах терапевтов. Совместно с Г.П. Сахаровым он является автором первого отечественного руководства по эндокринологии. Большое внимание В.Д. Шервинский уделял созданию сети специализированной эндокринологической помощи в стране, подготовке кадров эндокринологов и развитию промышленности по производству гормональных препаратов.
Василий Дмитриевич с необыкновенным уважением относился ко всем своим учителям. Большую долю «Воспоминаний» он отвел Г.А. Захарьину как человеку, произведшему на него огромное впечатление: «...Определенность и точность выражений, уверенный тон, как бы не допускающий сомнений, строгая логическая последовательность мышления при разборе симптомов болезни - все это вместе взятое производило не только сильное, но и как бы суггестирующее впечатление… Бывало, уходишь с лекции Григория Антоновича и чувствуешь, что несомненно что-то приобрел…».
В начале XX в. (после С.П. Боткина, Г.А. Захарьина и А.А. Остроумова) В.Д. Шервинский был одним из лидеров терапевтической элиты страны. Среди его пациентов было множество известных персон: А.А. Луначарский, В.В. Маяковский, А.А. Ахматова, А.М. Горький, К.С. Станиславский, М.Н. Ермолова и многие другие! К началу 1930-х гг. Шервинского называли «первым терапевтом, главой и руководителем внутренней медицины всего Союза» [10].
В отличие от авторитарной манеры общения Г.А. Захарьина, Василий Дмитриевич любил выслушивать разные точки зрения и талантливо резюмировал вопросы дискуссий. Об исключительно пиететном отношении коллег к В.Д. Шервинскому свидетельствует и его переписка с Г.Ф. Лангом [4]. Ланг писал: «Глубокоуважаемый Василий Дмитриевич, …орг. Комитет поручил мне просить Вас быть председателем X всесоюзного съезда терапевтов, что Вы должны быть председателем юбилейного съезда – это совершенно очевидно для всех и, конечно, не требует никаких аргументаций. Для того чтобы не перегружать Вас, мы выберем Вам заместителя (мы думаем о Ф.Г. Яновском). Мы твердо надеемся, что Вы не откажетесь. Простите, что я пишу в таком решительном тоне – он вытекает из глубокого убеждения, что съезд окажется неудавшимся, если Вы не окажете нам этой чести и этого удовольствия. Искренне преданный и глубоко уважающий Вас Г. Ланг. 5/IV/1928».
В.Д. Шервинский ответил: «Москва. 1928 г. Апреля 17 дня. Глубокоуважаемый Георгий Федорович. Ответить на желание Организационного комитета избрать меня председателем предстоящего X всесоюзного съезда терапевтов я не мог и не смею иначе, как согласием и глубокой благодарностью. Да и возможно ли было мне поступить иначе после Вашего письма, написанного в столь решительном и вместе с тем чрезвычайно лестном для меня тоне. Впрочем, я хорошо понимаю, что не мои ничтожные заслуги обусловливают эту высокую честь по отношению ко мне, а больше мое хронологическое значение по съездам и по возрасту. Тезисы моего необширного доклада я доставлю на днях. Крепко жму Вашу руку преданный Вам В. Шервинский».
Одним из самых дорогих учеников Василия Дмитриевича был М. П. Кончаловский. В своих воспоминаниях Максим Петрович напишет: «…когда В. Д. Шервинский получил кафедру Захарьина, я остался при этой клинике, и с тех пор я всю жизнь был связан с В.Д. самой теплой дружбой» [10].
...Что касается личной жизни Василия Дмитриевича, то он обрел счастье в браке с Анной Михайловной Алексеевой. Знавшие ее вспоминали, что Анна Михайловна была не только любящей женой, но и необыкновенно добрым и отзывчивым человеком [1]. Они вырастили двух сыновей, ставших гордостью отечественной культуры.
«Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов…» – сказано в Книге Притч Ветхого завета. Когда Анны Михайловны уже не стало, в семье родилась внучка – дочь младшего сына. Ее назвали Анной, и Василий Дмитриевич не скрывал: ему приятно, что имена остаются жить в семье. Две Анны были его любовью и опорой в жизни приемная мать и жена. От них зависел уют в душе и быту. Вторую внучку назвали Екатериной (в честь второй ее бабушки). Но это было и имя давшей ему жизнь и потерянной в детстве матери...
Любимым местом отдыха Василия Дмитриевича была усадьба «Старки» в селе Черкизове, под Коломной. Она была куплена им еще до революции и закреплена за Василием Дмитриевичем специальной охранной грамотой ВЦИК. Здесь он жил с семьей и в течение многих лет безотказно лечил обращавшихся к нему за медицинской помощью окрестных жителей, друзей и знакомых. Здесь его семьей выращивались редкие цветы и кустарники, был посажен сад плодовых деревьев разнообразных сортов. К сожалению, в 1962 г. Коломенское начальство постановило отобрать у потомков В.Д. Шервинского усадьбу... Постройки работы известных архитекторов были снесены; цветники, парк и сад, которые радовали глаз, уничтожаются временем и отсутствием заботы...
Василий Дмитриевич скончался 12 ноября 1941 г. от острой сердечной недостаточности в исходе крупозной пневмонии. Это произошло в Старках. Из-за сложной обстановки вырваться из Москвы на похороны было практически невозможно. Лишь один профессор Дмитрий Александрович Бурмин смог проводить близкого друга в последний путь. Похоронили Василия Дмитриевича на Черкизовском кладбище, но позднее прах по желанию сына перевезли в Москву на Новодевичье кладбище. Спустя сорок с лишним лет в здании школы, в старинном селе Черкизове, расположенном недалеко от Москвы-реки, открыли мемориальную доску. На серо-розовом граните, привезенном из Карелии, выгравировано: «В Черкизове-Старках с конца XIX в. и до 60 г. XX в. жили В.Д. Шервинский (1850–1941) доктор медицины, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР; Е.В. Шервинский (1878–1942) член-корреспондент Академии архитектуры, профессор; С.В. Шервинский (1892) советский писатель, переводчик, заслуженный деятель культуры АССР. Здесь бывали поэты А. Ахматова, В. Брюсов, А. Кочетков, М. Лозинский, Б. Пастернак, М. Цветаева и др. Здание школы построено в 1911 г. по проекту Е.В. Шервинского».
В 2011 г. постановлением губернатора Московской области Б.В. Громова имя Василия Дмитриевича Шервинского было присвоено Муниципальному учреждению «Черкизовский центр досуга и культуры» сельского поселения Радужное Коломенского района Московской области.
Решением президиума РНМОТ все мероприятия Общества в 2020 г. посвящаются памяти Василия Дмитриевича Шервинского.